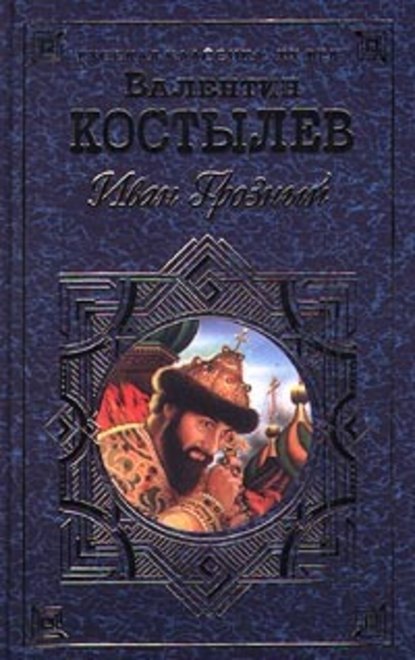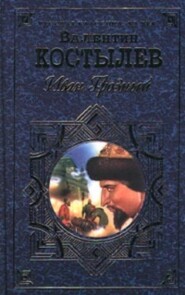По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иван Грозный. Книга 3. Невская твердыня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Борис приказал лекарю удалиться.
– Ну, что там, на посадах, да и в приказах болтают? – тихо спросил он. – Не скрывай. Говори все.
– Разно говорят. Народ жалостлив и любопытен. Богомольцы со слезами молятся об упокоении царевича... Шуму много.
– Знает ли народ правду?
– Кто же, кроме тебя, Борис Федорович, волен знать правду?!
– И я не знаю, – закрыв глаза, тяжело вздохнул Борис. – Не пойму. Не ведаю. Будто громом оглушен. Царевич хотел к Пскову с войском идти... Стать во главе войска... Может быть, это?.. Не знаю. Да и кто может знать?
Борис закашлялся, махнул рукой. Оба молчали. Затем, не открывая глаз, Борис, словно в бреду, медленно, больным голосом начал говорить:
– Я... вошел... в палату, услышал крик царя... Думал: не случилось ли чего с государем батюшкой? Открываю дверь... Иван Васильевич трясется, пена изо рта... в руке поднят посох на царевича... вот-вот ударит! Не выдержал я, и сам не помню, как то случилось... Я стал между государем и царевичем, схватил за руку Ивана... Васильевича... Ох, Господи! Страшно!.. Вспоминать страшно.
Борис перестал говорить, с трудом переводя дыхание.
У Никиты по щекам поползли слезы.
Отдышавшись, Борис продолжал:
– В ярости начал бить меня государь жезлом... Кровь пошла. Я упал, облобызал полу государевой одежды и поплелся прочь. – Помню крик Ивана Васильевича и стон упавшего на пол царевича. Больше ничего не помню... Ничего не видел... Дай воды! Какой страшный царь! Глаза его налились кровью... Эти глаза не дают мне покоя... Не по себе мне, Никита. По ночам трясучка одолела. Дай воды.
Борис с помощью Никиты слегка приподнялся, перекрестился, хлебнул из чаши.
Откинувшись на подушки, он закрыл глаза ладонью.
– Какого царя мы потеряли! Жаль мне Руси, жаль Ивана Ивановича. Горяч государь. Все его добрые дела кругом в колючках... Видать, так уж указано ему то судьбой. Надобно твердый разум иметь, надобно собою управлять так, как мудрые владыки правят царствами, чтоб пережить такое горе, такой позор.
Никита, тяжело вздохнув, робко спросил:
– Переживет ли?
Борис, пристально вглядываясь больными, беспокойными глазами в лицо дядюшки, спросил:
– А как думаешь ты?!
Никита растерянно развел руками:
– Господь ведает.
Борис покачал головою:
– Чего колеблешься? Переживет! Да. Переживет! – вдруг громко и строго произнес он. – Наш государь – богатырь!
Никита испуганно притих. Его поразил суровый, властный голос Бориса.
Опять наступило молчанье.
Никита, чувствуя себя неловко, собрался уходить, но Борис задержал его:
– Стой!
Никита снова сел.
Мягким, трогательно звучавшим голосом Борис произнес:
– А как государь любил царевича! Все мы знаем это. Любил он его. Очень. Монахи рассказывали... Четыре дня он сидел у гроба... не спал... и не принимал пищи... и все шептал нежные, ласковые слова... то и дело повторяя: «Иванушка, прости меня!», «Анастасьюшка, без умысла я!.. Прости и ты, светлое солнышко! Окаянный попутал!»
– Сам видел я на похоронах, – сказал Никита. – В простой власянице, лишив себя знаков царского сана, как злосчастный бедняк, простолюдин, бился он головою о крышку гроба и о землю, прося прощения у сына убиенного, у Бога, у покойной царицы Анастасии...
– Поздно!.. – тяжело вздохнул Борис. – Не вернуть! Поздно! Боже мой, какое великое горе! Царь всея Руси – сыноубийца.
Никита был поражен суровостью его голоса, с которой были произнесены эти слова. Лицо Бориса стало холодным.
– На Руси и без того слез много; плохо, коли и царь плачет... Когда царь и народ в унынии и в слезах, что же тогда Руси делать?! Мы не должны забывать о ней. Будем молиться о том, чтоб государь скорее забыл о своем горе. Не надо! Не надо слез! Что делать?! Потерянного не вернешь.
Борис властно взмахнул рукой, как будто отталкивая кого-то от себя.
– И мои раны заживут. Пустое! И меня жалеть нечего. Господь Бог даст нам сил. Я верю в это. Ты, Никита, будь зорок. Не забывай, что кругом враги. Лови злоязычных и на съезжую волоки. Царево горе – ворогам радость. Хотя и крепок государев трон, но подточить и его могут черви... Гляди в оба! К тому ты на Москве поставлен. Я верю в царя. Велика была любовь его к сыну, но несравненно величие его любви к родине... Она сильнее бурь морских, сильнее великой земной напасти! Ее убьет только смерть!.. Иди с Богом! Твори свое дело с верою! Нам ли отчаиваться?!
Первый излюбленный и выборный голова от всей Двинской области Семен Аникиев Дуда важно восседал в своей холмогорской торговой избе. По сторонам его за широким дубовым столом расположились подьячие.
На скамьях у стены в богатых шубах развалились приехавшие из внутренних областей Московского государства торговые люди.
Собрал их всех сегодня Дуда, чтобы огласить царский указ о построении на устьях Двины нового города, близ Архангельского монастыря, имя которого отныне будет Новохолмогорск. Торговые люди должны понять: если иноземцы полюбили Студеное море, как же московским купцам не ценить государеву заботу о сих местах?
Государев указ выслушали стоя.
Затем Дуда обратился к торговым людям со следующими словами:
– По воле Господа Бога и батюшки государя Ивана Васильевича ныне кончается древняя быль Двинской области... С той поры, как уничтожена дедом нашего государя боярщина на Двинской земле, возросло благоденствие сих мест. Рвение к торговле в Приморье возымели не только новгородские гости и купцы, но и чужеземные торговые люди... Видно – молву поветрием носит. Ну что ж! Доброму Савве и добрая слава. Милости просим! Рады гостям! Мало нам Холмогор, понадобился город Новохолмогоры, к морю поближе, чтобы нам с берегов виднее было: кто едет, зачем едет, с доброю ли целью... Есть и такие: где пирог с крупой, туда и мы с рукой! Таких мы тоже сумеем уважить. Царь наказал мне: «Гляди в оба!» Стало быть, и выходит: у Архангельской обители на Двине новая быль зачинается. Прошу вас, братцы, в бороде у себя узелок завязать для памяти: мол, у Студена моря новый торг, государев торг, опричь Холмогор... Покуда еще там топоры стучат, а скоро они замолчат, там и будем торг развертывать... Холмогорам скажем спасибо. Послужили они народу честно, по совести. Да и Богу молились там о прибыли купцы немало, да и винца испили там купцы немало же, и нагрешили здесь купцы порядочно... Словом, низкий поклон Холмогорам!
Слова Дуды были выслушаны купцами с превеликим вниманием, хотя втайне и не желали они ничего нового. Купец в новшествах осторожен, недоверчив, особенно старики. Им каждое новшество кажется «концом света». Торг упрям, привязчив к месту. Но ничего не поделаешь: надо смириться. Государево слово – кремень.
– Что ж вы молчите? Али молвить нечего?! – спросил Дуда.
– Спасибо, добрый начальник, спасибо! Царь – «от Бога пристав». Коли указано царем, так, стало быть, и Бог порешил... Против не пойдешь... – сказал самый старый из купцов Семен Осипович Баженин.
Дуда остался недоволен его ответом.
– «Против не пойдешь»! – грозно повторил он. – Да как у тебя, старина, язык-то повернулся сие молвить?! Пудовую свечу должны поставить! Десять служб в монастыре кряду отстоять. Вот что! А ты... «против не пойдешь»!
Купцы притихли, думая про себя: «Милость велика, да не стоит и лыка!» Сам Дуда догадывался об этом по выражению их лиц, но виду не показывал. Народ северский, большею частью пришедший на берега Двины из Новгорода, своенравен, горд, неподатлив. Купец здешний бывалый, продувной, – думает совсем не то, что говорит. А с Семеном Бажениным уж лучше и не спорь. Недавно приехал этот новгородский гость, а уж успел здесь великую силу в купецкой толпе забрать и хоромы себе воздвигнуть в короткий срок умудрился, хитроумные хоромы, с резьбой и убранством многокрасочным. Среди приземистых курных изб его хоромы высились горделиво, вызывающе: глядите, мол, кто в Холмогорах поселился! И действительно: все купцы гурьбой к Баженину валом валили с торгом и поклонами, и ото всех ему был почет великий и уважение.
– Ну, – произнес Дуда примирительным голосом, – можно нам и разойтись, государево слово сказано, а вами выслушано, стало быть, с Богом! Будем в дружбе и согласии вершить доброе.
У воеводской избы стояло в ожидании несколько возков. Лошади покрылись инеем. Морозно. Северную Двину и ее притоки давно уже сковало льдом.
– Ну, что там, на посадах, да и в приказах болтают? – тихо спросил он. – Не скрывай. Говори все.
– Разно говорят. Народ жалостлив и любопытен. Богомольцы со слезами молятся об упокоении царевича... Шуму много.
– Знает ли народ правду?
– Кто же, кроме тебя, Борис Федорович, волен знать правду?!
– И я не знаю, – закрыв глаза, тяжело вздохнул Борис. – Не пойму. Не ведаю. Будто громом оглушен. Царевич хотел к Пскову с войском идти... Стать во главе войска... Может быть, это?.. Не знаю. Да и кто может знать?
Борис закашлялся, махнул рукой. Оба молчали. Затем, не открывая глаз, Борис, словно в бреду, медленно, больным голосом начал говорить:
– Я... вошел... в палату, услышал крик царя... Думал: не случилось ли чего с государем батюшкой? Открываю дверь... Иван Васильевич трясется, пена изо рта... в руке поднят посох на царевича... вот-вот ударит! Не выдержал я, и сам не помню, как то случилось... Я стал между государем и царевичем, схватил за руку Ивана... Васильевича... Ох, Господи! Страшно!.. Вспоминать страшно.
Борис перестал говорить, с трудом переводя дыхание.
У Никиты по щекам поползли слезы.
Отдышавшись, Борис продолжал:
– В ярости начал бить меня государь жезлом... Кровь пошла. Я упал, облобызал полу государевой одежды и поплелся прочь. – Помню крик Ивана Васильевича и стон упавшего на пол царевича. Больше ничего не помню... Ничего не видел... Дай воды! Какой страшный царь! Глаза его налились кровью... Эти глаза не дают мне покоя... Не по себе мне, Никита. По ночам трясучка одолела. Дай воды.
Борис с помощью Никиты слегка приподнялся, перекрестился, хлебнул из чаши.
Откинувшись на подушки, он закрыл глаза ладонью.
– Какого царя мы потеряли! Жаль мне Руси, жаль Ивана Ивановича. Горяч государь. Все его добрые дела кругом в колючках... Видать, так уж указано ему то судьбой. Надобно твердый разум иметь, надобно собою управлять так, как мудрые владыки правят царствами, чтоб пережить такое горе, такой позор.
Никита, тяжело вздохнув, робко спросил:
– Переживет ли?
Борис, пристально вглядываясь больными, беспокойными глазами в лицо дядюшки, спросил:
– А как думаешь ты?!
Никита растерянно развел руками:
– Господь ведает.
Борис покачал головою:
– Чего колеблешься? Переживет! Да. Переживет! – вдруг громко и строго произнес он. – Наш государь – богатырь!
Никита испуганно притих. Его поразил суровый, властный голос Бориса.
Опять наступило молчанье.
Никита, чувствуя себя неловко, собрался уходить, но Борис задержал его:
– Стой!
Никита снова сел.
Мягким, трогательно звучавшим голосом Борис произнес:
– А как государь любил царевича! Все мы знаем это. Любил он его. Очень. Монахи рассказывали... Четыре дня он сидел у гроба... не спал... и не принимал пищи... и все шептал нежные, ласковые слова... то и дело повторяя: «Иванушка, прости меня!», «Анастасьюшка, без умысла я!.. Прости и ты, светлое солнышко! Окаянный попутал!»
– Сам видел я на похоронах, – сказал Никита. – В простой власянице, лишив себя знаков царского сана, как злосчастный бедняк, простолюдин, бился он головою о крышку гроба и о землю, прося прощения у сына убиенного, у Бога, у покойной царицы Анастасии...
– Поздно!.. – тяжело вздохнул Борис. – Не вернуть! Поздно! Боже мой, какое великое горе! Царь всея Руси – сыноубийца.
Никита был поражен суровостью его голоса, с которой были произнесены эти слова. Лицо Бориса стало холодным.
– На Руси и без того слез много; плохо, коли и царь плачет... Когда царь и народ в унынии и в слезах, что же тогда Руси делать?! Мы не должны забывать о ней. Будем молиться о том, чтоб государь скорее забыл о своем горе. Не надо! Не надо слез! Что делать?! Потерянного не вернешь.
Борис властно взмахнул рукой, как будто отталкивая кого-то от себя.
– И мои раны заживут. Пустое! И меня жалеть нечего. Господь Бог даст нам сил. Я верю в это. Ты, Никита, будь зорок. Не забывай, что кругом враги. Лови злоязычных и на съезжую волоки. Царево горе – ворогам радость. Хотя и крепок государев трон, но подточить и его могут черви... Гляди в оба! К тому ты на Москве поставлен. Я верю в царя. Велика была любовь его к сыну, но несравненно величие его любви к родине... Она сильнее бурь морских, сильнее великой земной напасти! Ее убьет только смерть!.. Иди с Богом! Твори свое дело с верою! Нам ли отчаиваться?!
Первый излюбленный и выборный голова от всей Двинской области Семен Аникиев Дуда важно восседал в своей холмогорской торговой избе. По сторонам его за широким дубовым столом расположились подьячие.
На скамьях у стены в богатых шубах развалились приехавшие из внутренних областей Московского государства торговые люди.
Собрал их всех сегодня Дуда, чтобы огласить царский указ о построении на устьях Двины нового города, близ Архангельского монастыря, имя которого отныне будет Новохолмогорск. Торговые люди должны понять: если иноземцы полюбили Студеное море, как же московским купцам не ценить государеву заботу о сих местах?
Государев указ выслушали стоя.
Затем Дуда обратился к торговым людям со следующими словами:
– По воле Господа Бога и батюшки государя Ивана Васильевича ныне кончается древняя быль Двинской области... С той поры, как уничтожена дедом нашего государя боярщина на Двинской земле, возросло благоденствие сих мест. Рвение к торговле в Приморье возымели не только новгородские гости и купцы, но и чужеземные торговые люди... Видно – молву поветрием носит. Ну что ж! Доброму Савве и добрая слава. Милости просим! Рады гостям! Мало нам Холмогор, понадобился город Новохолмогоры, к морю поближе, чтобы нам с берегов виднее было: кто едет, зачем едет, с доброю ли целью... Есть и такие: где пирог с крупой, туда и мы с рукой! Таких мы тоже сумеем уважить. Царь наказал мне: «Гляди в оба!» Стало быть, и выходит: у Архангельской обители на Двине новая быль зачинается. Прошу вас, братцы, в бороде у себя узелок завязать для памяти: мол, у Студена моря новый торг, государев торг, опричь Холмогор... Покуда еще там топоры стучат, а скоро они замолчат, там и будем торг развертывать... Холмогорам скажем спасибо. Послужили они народу честно, по совести. Да и Богу молились там о прибыли купцы немало, да и винца испили там купцы немало же, и нагрешили здесь купцы порядочно... Словом, низкий поклон Холмогорам!
Слова Дуды были выслушаны купцами с превеликим вниманием, хотя втайне и не желали они ничего нового. Купец в новшествах осторожен, недоверчив, особенно старики. Им каждое новшество кажется «концом света». Торг упрям, привязчив к месту. Но ничего не поделаешь: надо смириться. Государево слово – кремень.
– Что ж вы молчите? Али молвить нечего?! – спросил Дуда.
– Спасибо, добрый начальник, спасибо! Царь – «от Бога пристав». Коли указано царем, так, стало быть, и Бог порешил... Против не пойдешь... – сказал самый старый из купцов Семен Осипович Баженин.
Дуда остался недоволен его ответом.
– «Против не пойдешь»! – грозно повторил он. – Да как у тебя, старина, язык-то повернулся сие молвить?! Пудовую свечу должны поставить! Десять служб в монастыре кряду отстоять. Вот что! А ты... «против не пойдешь»!
Купцы притихли, думая про себя: «Милость велика, да не стоит и лыка!» Сам Дуда догадывался об этом по выражению их лиц, но виду не показывал. Народ северский, большею частью пришедший на берега Двины из Новгорода, своенравен, горд, неподатлив. Купец здешний бывалый, продувной, – думает совсем не то, что говорит. А с Семеном Бажениным уж лучше и не спорь. Недавно приехал этот новгородский гость, а уж успел здесь великую силу в купецкой толпе забрать и хоромы себе воздвигнуть в короткий срок умудрился, хитроумные хоромы, с резьбой и убранством многокрасочным. Среди приземистых курных изб его хоромы высились горделиво, вызывающе: глядите, мол, кто в Холмогорах поселился! И действительно: все купцы гурьбой к Баженину валом валили с торгом и поклонами, и ото всех ему был почет великий и уважение.
– Ну, – произнес Дуда примирительным голосом, – можно нам и разойтись, государево слово сказано, а вами выслушано, стало быть, с Богом! Будем в дружбе и согласии вершить доброе.
У воеводской избы стояло в ожидании несколько возков. Лошади покрылись инеем. Морозно. Северную Двину и ее притоки давно уже сковало льдом.