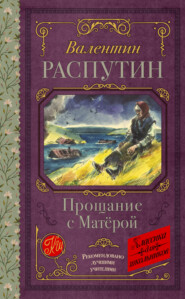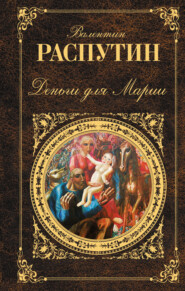По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собрание повестей и рассказов в одном томе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не смей! – пыталась защищаться Александра.
– Я тебе не посмею! Я тебе сейчас вторую ногу обломаю!
– Злишься, да? – вдруг переходя в наступление, закричала Александра. – Хочешь выжить меня? Не выйдет! Все равно он с тобой жить не будет, – отталкиваясь одной ногой, она наступала на Василису. – Он мой! Ты ему не нужна, не нужна, не нужна!
– Чего-чего! – опешила Василиса и рявкнула: – Кыш, кукша! Кыш, кукша! – еще раз крикнула она и, не оборачиваясь, пошла в дом.
– Чтоб больше эта хромая нога сюды не ступала, – строго выговаривала Василиса Тане. – Покуда я здесь хозяйка, а не она. У меня и без нее кровь порченая, моя судьба не сладкая была. Вот умру – еще помянете меня.
Она сняла с головы платок, который снимала редко, и стала гребешком расчесывать свои седые волосы. Таня, напугавшись, забилась на кровать и молчала.
– Сейчас бы квасу попила, – неожиданно сказала Василиса Тане.
– А квасники есть? – обрадовалась Таня. – Я бы поставила.
– Нету, – вздохнула Василиса.
Со временем Василиса, кажется, стала привыкать к Александре, она уже не ворчала, не злилась, а встречая ее, отводила глаза и молча проходила мимо. О случившемся Василиса не вспоминала – то ли чувствовала себя виноватой, то ли просто не хотела бередить душу. Она стала молчаливой, задумчивой, по вечерам, убравшись по хозяйству, уходила к старухам на чай и возвращалась только ко сну.
– Ты у нас, мать, не заболела? – спрашивал Петр.
– Есть когда мне болезнями заниматься, – неласково отвечала она и уходила.
Потом выяснилось, что Василиса писала письмо среднему сыну, который жил в тридцати километрах от деревни в леспромхозе, чтобы он взял ее к себе. Сын с радостью согласился и даже собрался ехать за ней, но она с попутчиками передала, чтобы он не торопился. Переселиться на новое место она так и не решилась.
– Везде хорошо, где нас нету, – вздыхая, говорила она Тане. – Куда мне теперь трогаться, помирать скоро надо.
В последнее время Василиса привязалась к Тане, по утрам, жалея ее, стараясь не греметь посудой, не позволяла ей делать тяжелую работу. Таня часто болела, а заболев, улыбалась грустной и виноватой улыбкой.
– Поболей, поболей, – утешала ее Василиса. – Потом детей народишь, болеть некогда будет. А жисть, она долгая. Твоя жисть тоже несладкая будет, мужик тебе не золото достался.
Потом она шла к Насте и говорила:
– Ты бы, Настька, сходила в амбар, к этим. У них, поди, малина есть. Пускай Таня чай с малиной попьет. Скажи Александре своей, что для Тани.
Прошла зима, в марте побежала под гору талая вода, запахло землей. Настиных ребятишек в эту пору домой загонять приходилось ремнем или пряником. Убегут и дверь не закроют, кому не лень – приходи и все собирай. Мать на работе, Василиса, как могла, следила – да разве за всем уследишь?
Как-то раз Василиса пошла посмотреть, есть ли кто у Насти дома, открыла незапертую дверь и вдруг замерла. В комнате кто-то плакал. Осторожно ступая, Василиса воровато заглянула в комнату – на кровати, зарывшись головой в подушку, лежала Александра и всхлипывала.
«Евон как, – удивилась Василиса. – Плачет». Она подождала, но Александра все не успокаивалась. Василиса подумала и подошла к самой кровати.
– Слезами горе не зальешь, – негромко, чтобы только дать о себе знать, сказала Василиса.
Александра испуганно вскочила и села на край кровати.
– А может, горя-то и нету, – продолжала Василиса. – У бабы, как у курицы, глаза на мокром месте.
Александра, не переставая всхлипывать, по-прежнему смотрела на нее с испугом.
– Пойдем-ка, бабонька, ко мне, – вдруг предложила Василиса. – Я самовар поставлю, чаю попьем.
Александра, отказываясь, замотала головой.
– Пойдем, пойдем, не ерепенься, – решительно сказала Василиса. – Я на тебя зла не имею, и ты на меня не имей. Нам с тобой делить нечего. Это жисть во всем виновата, зачем нам на себя вину брать?
Она привела ее в дом и усадила у стола. Александра то всхлипывала, то начинала икать.
– Не могу, когда бабы плачут, – обращаясь к опешившей Тане, которая лежала в кровати, объяснила Василиса. – Для меня это нож острый по сердцу. Жисть как пятак – с одной стороны орел, с другой решка, все хотят на орла попасть, а того не знают, что с той, и с другой стороны он пять копеек стоит. Эх, бабоньки, – она вздохнула. – Много плакать будем – сырость пойдет, а от сырости гниль заводится. Да кто вам сказал, что ежели плохо, то плакать надо?
Она ушла на кухню и загремела там самоваром.
– Ну? – вернувшись, спросила она у Александры и показала в сторону амбара. – Он, ли чо ли?
– Нет, – замотала головой Александра. – Это из-за мальчика, из-за сына.
Она взглянула на Василису и умолкла.
– Ты расскажи, – попросила Василиса, – легче будет.
– Легче не будет. Я чаю подожду, чтобы запивать. Так не могу.
Александра помолчала, но почти сразу же, не вытерпев, стала рассказывать:
– Ему было четыре годика, совсем маленький. Меня взяли в труд-армию, а он остался с моей мамой. Их без меня эвакуировали, я долго не могла попасть в город, пришла, а их нету. – Она опять всхлипнула.
– Скоро чай будет, – напомнила Василиса.
– Маму дорогой ранило, ее сняли с поезда, а его повезли дальше. Говорили, что в вашу область.
– Скоро чай будет, – опять сказала Василиса.
– Теперь он мне снится. Когда ему исполнилось десять лет, снился десятилетним, когда исполнилось пятнадцать, и во сне столько же. А теперь он совсем взрослый. Приходит сегодня ночью и говорит: «Мама, дайте мне свое родительское благословение, жениться хочу».
– А ты? – вся подавшись вперед, спросила Василиса.
– А я ему отвечаю: «Подожди, сынок, вот найду тебя, тогда и женись». – «А скоро ты меня найдешь?» – спрашивает он.
– Ой ты! – ахнула Василиса.
– Скоро, – говорю, – сынок, очень скоро. Он и пошел от меня. «Ау! – кричит. – Мама, ищи».
Василиса, замерев, ждет продолжения. Александра молчит.
– Так и ушел?
– Ушел.
– А не сказал, где искать-то?