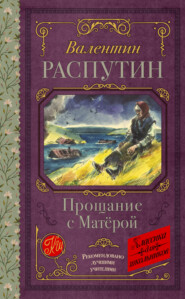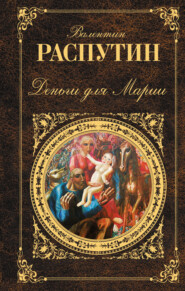По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На родине. Рассказы и очерки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Места себе не находишь?
Он согласился:
– Не нахожу.
Через два дня после этого он уезжал. Мать и отец молча и подавленно ждали, чтобы проводить его на пристань; Виктор в последний раз зашел в избу попрощаться с бабушкой. Она с трудом поднялась с постели, заплакала и, плача, перекрестила его.
* * *
И опять теплоход. Взять каюту на этот раз не удалось: весь теплоход был забит туристами. Все остальные пассажиры забились по углам и выглядывали оттуда со страхом и любопытством, а вокруг смеялись, пели, бренчали, гонялись друг за другом, как дети, – теплоход более всего напоминал цыганский табор. Хорошо еще, что мать положила Виктору в дорогу какие-то печенюшки, а то бы пришлось голодать: ресторан был отдан только туристам, а буфет к этому времени они успели разграбить.
Виктор оставил чемодан у старушек внизу, вчетвером сбившихся на одной скамье, и бродил по палубе. Далекие берега были неподвижны, вода спокойной, и теплоход, продвигаясь вперед, создавал видимость медленного и важного встречного течения. Лето набралось, разгорелось еще больше, поднялось выше, по обе стороны от воды все было охвачено его ровным и светлым зеленым огнем.
Дни, проведенные Виктором в деревне, свернулись в один смутный, неразличимый клубок, успевший закатиться куда-то, и Виктор никак не мог поверить, что он уже возвращается обратно. Он пытался понять, что заставило его уехать, можно сказать, даже сбежать из деревни, но попытки эти были слабыми. Кажется, он не жалел, что уехал. Видимо, надо было уехать. Видимо, надо было уехать, чтобы повторить все сначала: сесть в городе на теплоход, любоваться по пути рекой, ее берегами и течением, проснуться на рассвете от странного скребущего звука и увидеть затопленные деревья, новые берега и новые деревни, удивиться и испугаться разливу воды – увидеть и испытать заново все то, что он уже видел и испытал в этой поездке, но быть самому другим человеком, более опытным и спокойным, хорошо и ясно представляющим, куда он едет и что там найдет.
И он знал уже, что так оно и выйдет, – должно быть, скоро.
1972, 2003
Пожар
Повесть
Горит село, горит родное…
Горит вся родина моя.
Из народной песни
1
И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край, да и только. Он поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые дорога от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь в здоровье собственного дыхания, впервые пустячная эта дорога представилась ему по всей своей дотошной вытянутости, где каждый метр требовал шага и для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, даже и домой не несли.
И предстоящая неделя, последняя рабочая неделя, показалась теперь бесконечной – дольше жизни. Нельзя было вообразить, как, в каких потугах можно миновать ее, эту неделю, и уж совсем не поддавалось ни взгляду, ни мысли то существование, которое могло начаться вслед за нею. Там было что-то чужое, запретное – заслуженное, но и ненужное, и уж не дальше и не видимей самой смерти представлялось оно в эти горькие минуты.
И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто край открылся, край – дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как заводить опять и выезжать – неизвестно. Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось, пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опамятоваться, третьим протрезветь… А там – новый свет и выздоровление. Вот бы хорошо.
Вечер был мякотный, тихий… Как растеплило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджимать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы; продолжали булькать, скатываясь под уклон, ручейки. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только Ангара, где снег был белее и чище, походила издали на твердый берег.
Иван Петрович добрался наконец до дому, не помня, останавливался, заговаривал с кем по дороге или нет, без обычной боли, – когда то ли обрывалась, то ли восставала душа, – прошел мимо разоренного палисадника перед избой и прикрыл за собой калитку. С заднего двора, от стайки, слышался голос Алены, ласково внушающий что-то месячной телочке. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыться и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место мое», – подумал он, прислушиваясь, не идет ли Алена, и страдая оттого, что придется подниматься на ужин. Алена не отстанет, пока не накормит. А так не хотелось подниматься! Ничего не хотелось. Как в могиле.
Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет, не захворал. Устал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на ужин. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вяло и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее и кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю.
Тут и настигли Ивана Петровича крики:
– Пожар! Склады горят!
До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут из него. Но подскочила Алена:
– Ты слышишь, Иван? Слышишь?! Ах ты! А ты и не поел.
2
Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец которой тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильней говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в Нижнюю улицу, – словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две другие стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для машин и рядом проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора, весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины – на продовольственную и промтоварную.
Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту и в другую сторону, мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды.
С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьезней. Чтобы спрямить дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился: горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился: и что же, куда он с пустыми руками? Он бегом повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было, она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленницы топор и заметался по ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путем обратно.
На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. И столь серьезного пожара, с тех пор как стоит поселок, еще не бывало.
Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.
3
Загорелось, по всему судя, с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны: продовольственные – в длинный конец и промышленные – в короткий. И те и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до постройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, – русский человек и всегда-то умен был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли: спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то или, уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним.
Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там поверху насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два – одно дело, когда мочит ящики с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты, и совсем другое – если под дождь попадут те же японские тряпки, за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска и которые имеют какую-то особую цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада, отсюда, на здравый взгляд, и могла начаться вся история.
Под шифером же стоял еще один склад – дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы.
Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу – чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром – мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные от времени, ломающиеся тесины. Иван Петрович вспомнил про топор в руках – с топором к ним ему и следовало на подмогу – и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх. Совсем отказала ему голова, совсем ничего не шло на ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ската ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора – туда и побежал, уже и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы вдыхаемым отчаянием кляня и опаляя, под стать общему жару, себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик как мужик был – одна шкура от мужика осталась.
Там, наверху, командовал Афоня Бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдергу. И как-то легче сразу стало на душе у Ивана Петровича: хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный человек – тракторист Семен Кольцов, мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал: человек надежный.
Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:
– Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол – с пустыми руками.
Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая колотушкой, как кувалдой, бил споднизу в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обращенного к Ангаре, и, обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в раж, круша и кроша доски и слева и справа, что-то дико и беспрестанно кричал. Как ни занят, как ни употреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову ором орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности; века-то миновали, а в душе она совсем рядом.
Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигаться быстрей – и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тоньё. Задымились стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинулся и забил телогрейкой Афоня.
И еще раз убедился Иван Петрович: отчаянная душа этот Афоня, свой, из старой дозатопной деревни парень, теперь уже не парень давно – мужик.
Снова принялись за дело, чаще и опасливей оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость: выкатили обгоревший «Урал». Мотоцикл «Урал» с коляской, за которым в леспромхозе гоняются больше, чем за «Жигулями». Парень был полузнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:
– Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно спрашивал. Нету – говорит. А он уж тут стоял!
Афоня понужнул его:
– Ты лом искал – или что?!
– Нету. Ничего нету, – закричал парень. – Вы поглядите: бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. С Ангары на коромысле таскают. На такой ад – на коромысле! Да это ж все одно, что встать в ряд и чихать на него. Ему это все одно.
И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользоваться огнетушителями:
– Его ударишь, как надо, а из него один пшик. Пшик – и все. Ни пены, ни гангрены. Они то ли высохли, то ли выдохлись.
Он кричал из-за спин: Афоня заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого без роздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после, в течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега звучат человечьими словами – чтобы понятно было людям.
Он согласился:
– Не нахожу.
Через два дня после этого он уезжал. Мать и отец молча и подавленно ждали, чтобы проводить его на пристань; Виктор в последний раз зашел в избу попрощаться с бабушкой. Она с трудом поднялась с постели, заплакала и, плача, перекрестила его.
* * *
И опять теплоход. Взять каюту на этот раз не удалось: весь теплоход был забит туристами. Все остальные пассажиры забились по углам и выглядывали оттуда со страхом и любопытством, а вокруг смеялись, пели, бренчали, гонялись друг за другом, как дети, – теплоход более всего напоминал цыганский табор. Хорошо еще, что мать положила Виктору в дорогу какие-то печенюшки, а то бы пришлось голодать: ресторан был отдан только туристам, а буфет к этому времени они успели разграбить.
Виктор оставил чемодан у старушек внизу, вчетвером сбившихся на одной скамье, и бродил по палубе. Далекие берега были неподвижны, вода спокойной, и теплоход, продвигаясь вперед, создавал видимость медленного и важного встречного течения. Лето набралось, разгорелось еще больше, поднялось выше, по обе стороны от воды все было охвачено его ровным и светлым зеленым огнем.
Дни, проведенные Виктором в деревне, свернулись в один смутный, неразличимый клубок, успевший закатиться куда-то, и Виктор никак не мог поверить, что он уже возвращается обратно. Он пытался понять, что заставило его уехать, можно сказать, даже сбежать из деревни, но попытки эти были слабыми. Кажется, он не жалел, что уехал. Видимо, надо было уехать. Видимо, надо было уехать, чтобы повторить все сначала: сесть в городе на теплоход, любоваться по пути рекой, ее берегами и течением, проснуться на рассвете от странного скребущего звука и увидеть затопленные деревья, новые берега и новые деревни, удивиться и испугаться разливу воды – увидеть и испытать заново все то, что он уже видел и испытал в этой поездке, но быть самому другим человеком, более опытным и спокойным, хорошо и ясно представляющим, куда он едет и что там найдет.
И он знал уже, что так оно и выйдет, – должно быть, скоро.
1972, 2003
Пожар
Повесть
Горит село, горит родное…
Горит вся родина моя.
Из народной песни
1
И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край, да и только. Он поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые дорога от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь в здоровье собственного дыхания, впервые пустячная эта дорога представилась ему по всей своей дотошной вытянутости, где каждый метр требовал шага и для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, даже и домой не несли.
И предстоящая неделя, последняя рабочая неделя, показалась теперь бесконечной – дольше жизни. Нельзя было вообразить, как, в каких потугах можно миновать ее, эту неделю, и уж совсем не поддавалось ни взгляду, ни мысли то существование, которое могло начаться вслед за нею. Там было что-то чужое, запретное – заслуженное, но и ненужное, и уж не дальше и не видимей самой смерти представлялось оно в эти горькие минуты.
И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто край открылся, край – дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как заводить опять и выезжать – неизвестно. Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось, пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опамятоваться, третьим протрезветь… А там – новый свет и выздоровление. Вот бы хорошо.
Вечер был мякотный, тихий… Как растеплило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджимать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы; продолжали булькать, скатываясь под уклон, ручейки. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только Ангара, где снег был белее и чище, походила издали на твердый берег.
Иван Петрович добрался наконец до дому, не помня, останавливался, заговаривал с кем по дороге или нет, без обычной боли, – когда то ли обрывалась, то ли восставала душа, – прошел мимо разоренного палисадника перед избой и прикрыл за собой калитку. С заднего двора, от стайки, слышался голос Алены, ласково внушающий что-то месячной телочке. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыться и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место мое», – подумал он, прислушиваясь, не идет ли Алена, и страдая оттого, что придется подниматься на ужин. Алена не отстанет, пока не накормит. А так не хотелось подниматься! Ничего не хотелось. Как в могиле.
Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет, не захворал. Устал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на ужин. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вяло и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее и кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю.
Тут и настигли Ивана Петровича крики:
– Пожар! Склады горят!
До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут из него. Но подскочила Алена:
– Ты слышишь, Иван? Слышишь?! Ах ты! А ты и не поел.
2
Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец которой тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильней говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в Нижнюю улицу, – словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две другие стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для машин и рядом проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора, весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины – на продовольственную и промтоварную.
Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту и в другую сторону, мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды.
С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьезней. Чтобы спрямить дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился: горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился: и что же, куда он с пустыми руками? Он бегом повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было, она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленницы топор и заметался по ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путем обратно.
На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. И столь серьезного пожара, с тех пор как стоит поселок, еще не бывало.
Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.
3
Загорелось, по всему судя, с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны: продовольственные – в длинный конец и промышленные – в короткий. И те и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до постройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, – русский человек и всегда-то умен был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли: спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то или, уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним.
Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там поверху насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два – одно дело, когда мочит ящики с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты, и совсем другое – если под дождь попадут те же японские тряпки, за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска и которые имеют какую-то особую цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада, отсюда, на здравый взгляд, и могла начаться вся история.
Под шифером же стоял еще один склад – дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы.
Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу – чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром – мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные от времени, ломающиеся тесины. Иван Петрович вспомнил про топор в руках – с топором к ним ему и следовало на подмогу – и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх. Совсем отказала ему голова, совсем ничего не шло на ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ската ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора – туда и побежал, уже и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы вдыхаемым отчаянием кляня и опаляя, под стать общему жару, себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик как мужик был – одна шкура от мужика осталась.
Там, наверху, командовал Афоня Бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдергу. И как-то легче сразу стало на душе у Ивана Петровича: хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный человек – тракторист Семен Кольцов, мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал: человек надежный.
Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:
– Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол – с пустыми руками.
Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая колотушкой, как кувалдой, бил споднизу в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обращенного к Ангаре, и, обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в раж, круша и кроша доски и слева и справа, что-то дико и беспрестанно кричал. Как ни занят, как ни употреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову ором орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности; века-то миновали, а в душе она совсем рядом.
Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигаться быстрей – и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тоньё. Задымились стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинулся и забил телогрейкой Афоня.
И еще раз убедился Иван Петрович: отчаянная душа этот Афоня, свой, из старой дозатопной деревни парень, теперь уже не парень давно – мужик.
Снова принялись за дело, чаще и опасливей оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость: выкатили обгоревший «Урал». Мотоцикл «Урал» с коляской, за которым в леспромхозе гоняются больше, чем за «Жигулями». Парень был полузнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:
– Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно спрашивал. Нету – говорит. А он уж тут стоял!
Афоня понужнул его:
– Ты лом искал – или что?!
– Нету. Ничего нету, – закричал парень. – Вы поглядите: бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. С Ангары на коромысле таскают. На такой ад – на коромысле! Да это ж все одно, что встать в ряд и чихать на него. Ему это все одно.
И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользоваться огнетушителями:
– Его ударишь, как надо, а из него один пшик. Пшик – и все. Ни пены, ни гангрены. Они то ли высохли, то ли выдохлись.
Он кричал из-за спин: Афоня заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого без роздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после, в течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега звучат человечьими словами – чтобы понятно было людям.