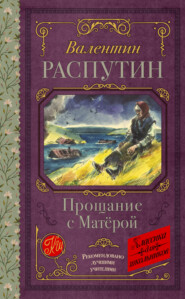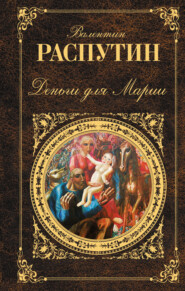По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Уроки французского. Повести и рассказы
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Старуха не ответила, она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всём её положении была такая заворожённость и нечеловеческая стынь, будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять. В избе стало совсем тихо, а с улицы ничего не доходило. На этот раз старуха молчала недолго и высветленным, затаённо-сообщающим голосом, который, казалось, выходит из неё сам, без её участия – она и глаза не подняла от стены, – сказала:
– А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо мной ревела. Голос твой был, твой – я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мёртвой уж ревёшь. Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя скрозь смерть слышу – не иначе.
Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери – не могла ни сказать, ни заплакать. Илья подошёл к Михаилу, удивлённо шепнул:
– Чудная у нас мать. Тебе не кажется?
– А кто скажет, моить, оне потом ишо сколька да-нить слышат, – добавила старуха. – Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые.
– Ты о чём это там, мать? – громко спросил Илья. – О чем говоришь-то?
– Об чём? – Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась. – Я ить от радости, что вас вижу, не знаю, чё и сказать. Болтаю чё-то. Вы уж не сердитесь на меня, на старую. Я совсем из ума выжила.
– Да ты что, мать! Ты думаешь, мы не рады, что у тебя всё в порядке? Давай теперь только быстрей поправляйся. В гости с тобой пойдём, ага. Чего нам дома сидеть! Все вместе соберёмся и пойдем в гости. А не пойдёшь – на руках унесём. Тебя есть кому на руках таскать.
– Попей ещё. – Люся подала матери кружку с кашей. – Теперь можно, желудок уже работает, справится.
Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:
– Глите-ка! Пошло как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб жует.
– Ну вот, теперь будет лучше. А потом ещё попьём.
– Ой, да в меня боле не полезет.
– Ничего, ничего, полезет.
– Мне только бы Таньчору дождаться, – жалобно сказала старуха. – Чё вот она так долго не едет? А ну как чё стряслось?
– Приедет, мама, не беспокойся. Ей далеко ехать. Обязательно приедет.
Старуха попросила:
– Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя.
– Никто пока и не собирается уезжать.
– Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась – долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас взгляну, и мне хватит.
– Что это ещё за «надоедать» да «молчком»? – выговорила старухе Люся. – Как тебе не стыдно, мама! Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами – пойми, пожалуйста, это.
– Не говори так, матушка, – поддержала Люсю Варвара. – Не говори так, а то я не знаю, что со мной будет.
Илья тоже не вытерпел:
– Ну, мать, ну, мать…
Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:
– Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нибудь, как птица какая, всем рассказала бы… Господи…
День отходил всё больше и больше, но в избе было светло и ясно: чёткое закатное солнце било прямо в окно, под которым лежала старуха. Солнце теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Всё здесь было знакомо, всё было родное старухиным ребятам, и всё, казалось, чутко повторяло мать: наговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось вниз ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своём месте после неё – похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты, и держатся только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах – везде.
И воздух здесь был тот же, каким они дышали в детстве; он заманивал, затягивал их на много лет назад, но у него, как и у старухи, недоставало сил.
Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать голову. Они уже давно отвыкли от неоштукатуренных стен, которые выпучивались белёными бревнами. Под матицей болталось кольцо для зыбки, а зыбка раньше почти никогда не пустовала; вырастал из неё один, ложился другой.
По обе стороны от окна над столбом в двух рамках густо лепились фотографии. Тут были все они: Илья и Михаил в армии – с приветами из тех мест, где служили; Илья за рулём машины на Севере; Варвара со своим мужиком – он и она с одинаково вылупленными глазами, с каменной прямотой, стоят, держась за спинку стула, будто боятся упасть; Люся, склонившая голову набок, на подставленную ладонь; Люся где-то на курорте среди большущих чудных деревьев; ещё деревенская Татьяна с узким напуганным лицом, словно она фотографировалась под страхом смерти.
На божницу в правом углу теперь ставили лампу. В эту ночь лампа пригодилась, а так её не снимали оттуда месяцами, и старуха крестилась, не подымая глаз. Ещё правее, ближе к старухиному окну, висел плакат, завезённый в леспромхоз в позапрошлом году. На нём мальчишка с лопатой выходил из лесу. Подпись внизу разъясняла: «Сажай деревьев больше, будешь жить дольше». Лес поначалу был зелёным, но мухи быстро сделали его жёлтым, да и мальчишка за эти годы тоже порядком постарел, но к картинке притерпелись и не снимали её.
Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут, и говорила легче, без натуги, сразу находя нужное слово. Она ещё уставала от разговора, но уже сама руководила собой: надо было отдохнуть – отдыхала, она снова приучилась оставлять себя на потом, на то, что будет впереди, а не изводиться вся на то, что есть.
Светлый вечер подходил к концу, в избе, да и не только в избе – везде, выстывало, смежалось.
Люся стала поправлять на матери одеяло, отогнула его и вдруг замешкалась, позвала:
– Михаил, иди-ка сюда.
– Что там такое?
Старуха, ничего не понимая, испуганно и стыдливо убрала с того места ноги.
– Посмотри-ка, Михаил, – показала Люся, пружиня голос.
– Куда?
– Вот сюда, сюда.
– Ну и что?
– Как «ну и что»? Он же ещё и спрашивает! Неужели ты не видишь, на каких простынях лежит у вас мама? Они же чёрные. Их, наверное, целый год не меняли. Разве можно больному и старому человеку, твоей матери, спать на таких простынях? Как тебе только не стыдно?
– Что ты меня стыдишь? Я что тебе – простынями заведую?
– Но посмотреть-то ты мог? Сказать, чтобы их постирали, уж, наверное, ты мог? Это-то совсем, кажется, не трудно. Или тебе всё равно, в каких условиях находится наша мама? Ведь ты здесь хозяин.
Люся не смотрела и не видела, как густо, не зная, куда себя девать, залилась краской Надя.
– Люся! Люся! – останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: – Я ить надсадилась тебя кричать. Ты пошто у меня-то не спросишь? Нашла о чём говореть – о простынях! Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это тепери новую моду завели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину, – без рук останешься.
– Мама, я сейчас разговариваю с Михаилом, а не с тобой.
– Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты своё? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этими простынями: давай выташу да давай выташу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру – одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут.
– Зачем ты заводишь опять об этом разговор?
– Ишо не лучше! Зачем, говорит. – Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпела: – Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу. Думаю, чё там она подо мной увидала, неужли я чё наделала? С меня тепери какой спрос? Хуже малого ребёнка. Сама себя не помню.
– А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо мной ревела. Голос твой был, твой – я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мёртвой уж ревёшь. Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя скрозь смерть слышу – не иначе.
Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери – не могла ни сказать, ни заплакать. Илья подошёл к Михаилу, удивлённо шепнул:
– Чудная у нас мать. Тебе не кажется?
– А кто скажет, моить, оне потом ишо сколька да-нить слышат, – добавила старуха. – Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые.
– Ты о чём это там, мать? – громко спросил Илья. – О чем говоришь-то?
– Об чём? – Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась. – Я ить от радости, что вас вижу, не знаю, чё и сказать. Болтаю чё-то. Вы уж не сердитесь на меня, на старую. Я совсем из ума выжила.
– Да ты что, мать! Ты думаешь, мы не рады, что у тебя всё в порядке? Давай теперь только быстрей поправляйся. В гости с тобой пойдём, ага. Чего нам дома сидеть! Все вместе соберёмся и пойдем в гости. А не пойдёшь – на руках унесём. Тебя есть кому на руках таскать.
– Попей ещё. – Люся подала матери кружку с кашей. – Теперь можно, желудок уже работает, справится.
Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:
– Глите-ка! Пошло как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб жует.
– Ну вот, теперь будет лучше. А потом ещё попьём.
– Ой, да в меня боле не полезет.
– Ничего, ничего, полезет.
– Мне только бы Таньчору дождаться, – жалобно сказала старуха. – Чё вот она так долго не едет? А ну как чё стряслось?
– Приедет, мама, не беспокойся. Ей далеко ехать. Обязательно приедет.
Старуха попросила:
– Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя.
– Никто пока и не собирается уезжать.
– Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась – долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас взгляну, и мне хватит.
– Что это ещё за «надоедать» да «молчком»? – выговорила старухе Люся. – Как тебе не стыдно, мама! Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами – пойми, пожалуйста, это.
– Не говори так, матушка, – поддержала Люсю Варвара. – Не говори так, а то я не знаю, что со мной будет.
Илья тоже не вытерпел:
– Ну, мать, ну, мать…
Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:
– Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нибудь, как птица какая, всем рассказала бы… Господи…
День отходил всё больше и больше, но в избе было светло и ясно: чёткое закатное солнце било прямо в окно, под которым лежала старуха. Солнце теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Всё здесь было знакомо, всё было родное старухиным ребятам, и всё, казалось, чутко повторяло мать: наговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось вниз ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своём месте после неё – похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты, и держатся только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах – везде.
И воздух здесь был тот же, каким они дышали в детстве; он заманивал, затягивал их на много лет назад, но у него, как и у старухи, недоставало сил.
Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать голову. Они уже давно отвыкли от неоштукатуренных стен, которые выпучивались белёными бревнами. Под матицей болталось кольцо для зыбки, а зыбка раньше почти никогда не пустовала; вырастал из неё один, ложился другой.
По обе стороны от окна над столбом в двух рамках густо лепились фотографии. Тут были все они: Илья и Михаил в армии – с приветами из тех мест, где служили; Илья за рулём машины на Севере; Варвара со своим мужиком – он и она с одинаково вылупленными глазами, с каменной прямотой, стоят, держась за спинку стула, будто боятся упасть; Люся, склонившая голову набок, на подставленную ладонь; Люся где-то на курорте среди большущих чудных деревьев; ещё деревенская Татьяна с узким напуганным лицом, словно она фотографировалась под страхом смерти.
На божницу в правом углу теперь ставили лампу. В эту ночь лампа пригодилась, а так её не снимали оттуда месяцами, и старуха крестилась, не подымая глаз. Ещё правее, ближе к старухиному окну, висел плакат, завезённый в леспромхоз в позапрошлом году. На нём мальчишка с лопатой выходил из лесу. Подпись внизу разъясняла: «Сажай деревьев больше, будешь жить дольше». Лес поначалу был зелёным, но мухи быстро сделали его жёлтым, да и мальчишка за эти годы тоже порядком постарел, но к картинке притерпелись и не снимали её.
Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут, и говорила легче, без натуги, сразу находя нужное слово. Она ещё уставала от разговора, но уже сама руководила собой: надо было отдохнуть – отдыхала, она снова приучилась оставлять себя на потом, на то, что будет впереди, а не изводиться вся на то, что есть.
Светлый вечер подходил к концу, в избе, да и не только в избе – везде, выстывало, смежалось.
Люся стала поправлять на матери одеяло, отогнула его и вдруг замешкалась, позвала:
– Михаил, иди-ка сюда.
– Что там такое?
Старуха, ничего не понимая, испуганно и стыдливо убрала с того места ноги.
– Посмотри-ка, Михаил, – показала Люся, пружиня голос.
– Куда?
– Вот сюда, сюда.
– Ну и что?
– Как «ну и что»? Он же ещё и спрашивает! Неужели ты не видишь, на каких простынях лежит у вас мама? Они же чёрные. Их, наверное, целый год не меняли. Разве можно больному и старому человеку, твоей матери, спать на таких простынях? Как тебе только не стыдно?
– Что ты меня стыдишь? Я что тебе – простынями заведую?
– Но посмотреть-то ты мог? Сказать, чтобы их постирали, уж, наверное, ты мог? Это-то совсем, кажется, не трудно. Или тебе всё равно, в каких условиях находится наша мама? Ведь ты здесь хозяин.
Люся не смотрела и не видела, как густо, не зная, куда себя девать, залилась краской Надя.
– Люся! Люся! – останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: – Я ить надсадилась тебя кричать. Ты пошто у меня-то не спросишь? Нашла о чём говореть – о простынях! Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это тепери новую моду завели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину, – без рук останешься.
– Мама, я сейчас разговариваю с Михаилом, а не с тобой.
– Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты своё? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этими простынями: давай выташу да давай выташу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру – одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут.
– Зачем ты заводишь опять об этом разговор?
– Ишо не лучше! Зачем, говорит. – Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпела: – Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу. Думаю, чё там она подо мной увидала, неужли я чё наделала? С меня тепери какой спрос? Хуже малого ребёнка. Сама себя не помню.