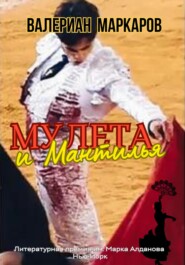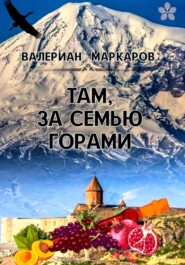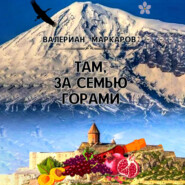По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трамвай её желания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не за что, – ответил он и заморгал карими глазами в обрамлении длинных ресниц, которым позавидует любая девушка. Её всегда нравились карие глаза, она считала их очень выразительными, умными и романтичными. А потом на его щеках выступил румянец. Видать, засмущался, решила она. Это надо же – встретить в наши дни мужчину, способного смущаться!
– Я вам обязательно верну, обещаю, – добавила она, улыбаясь. – Сегодня же.
– Да не стоит, – равнодушно пожал он плечами и посмотрел на двери.
Бог ты мой, наверное, ему скоро выходить, прикинула Нино. А ведь даже не познакомились. А он такой… такой! Просто эталон красоты. Его густые тёмно-каштановые волосы блестели в свете солнечных лучей, а четкие линии бровей добавляли выразительности взгляду. Он слегка щурился, словно забыл дома очки, и хмурил переносицу, что выглядело чрезвычайно мило. Да, странно было встретить его здесь, в трамвае. Солнце за окнами засветило ярче прежнего, и сердце её запело. Ей всегда было интересно, существует ли любовь с первого взгляда. Сейчас она убедилась, что существует. И ей захотелось смеяться, кричать в неудержимом восторге и творить глупости. «Влюбляюсь», – молнией пронеслось в голове. Влюбляюсь и ничего не могу с этим поделать. Да и вид у неё был слишком довольный. Правда, она не знала, что делать со всем этим дальше.
– Не хотите сесть? – нежданно-негаданно предложила она незнакомцу. – Вон там, впереди, возле выхода, освободились два места.
Он молча кивнул и послушно двинулся в указанном направлении. Сел возле окна. Нино пристроилась рядышком.
– А я ведь и не спросила, как ваше имя, – полюбопытствовала она и тут же заподозрила, что он сейчас скажет «Георгий», ведь это, пожалуй, самое распространённое мужское имя в Грузии.
– Георгий…
Ну надо же, до чего я догадливая, вмиг пронеслось в её голове. А вслух она произнесла:
– Очень приятно, Георгий. А меня зовут Нино. Я, представляете, в первый раз в жизни кошелёк дома забыла. Такая досада. Обычно я не такая растеряха. Знаете, если бы не вы…
– Да ничего страшного, – парень смущённо улыбнулся. Правда, теперь он разглядывал девушку с некоторым интересом. Чудо, какой скромненький, заключила она. И уж точно, что умный и добрый. Ну сущий Мистер Немногословность. Болтливых людей она не любила, в особенности – болтливых парней.
Она и не заметила, как трамвай плавно подошёл к остановке. Георгий вдруг подскочил, ловко огибая колени Нино и сообщил:
– Извините, мне пора сходить.
– Ой, – всполошилась Нино, глянув в окно. – Мне тоже… уже…
Он ловко спрыгнул со ступеньки и протянул ей руку. Сердце Нино растаяло. Точно влюбилась, подумала она радостно. А потом железные двери гулко закрылись перед ними и гостеприимный вагон покатился по рельсам, раскачиваясь и набирая ход.
– Ну, я пойду, – неловко сказал парень. – Всего вам хорошего, Нино.
– И вам, – отозвалась она.
Он кивнул, развернулся и зашагал по тротуару вдоль по улице. Нино, растерянная, смотрела ему вслед так, словно не верила, что он уходит. Потом вздохнула. Ожидание чуда – отчаянное и безумное, но такое нелепое – таяло с каждой секундой. Рассчитывать больше было не на что.
Она в глубокой задумчивости направилась в другую сторону. И, с трудом сдерживая слёзы, уговаривала себя не терять голову, не разрушать свой прежний благополучный и спокойный мир, такой незыблемый и устойчивый, в котором ещё совсем недавно была счастлива. И всё же слабая надежда не покидала её, вопреки холодным и расчётливым доводам рассудка.
– Нино! – вдруг раздалось сзади.
Чуть не подпрыгнув от неожиданности, она обернулась. В её душе зажёгся свет. Георгий догонял её широкими шагами и вскоре оказался рядом.
– Знаете что? – выпалил он, задыхаясь. Нино смотрела на него снизу вверх и ждала. Догадывался ли он в эту минуту, что за этими большими глазами стоит личность со своим бескрайним космосом?
– Позвоните мне, если что, – сказал он ей тихим голосом. – Я там, на билете, номер записал.
С этими словами он что-то проворно вложил в карман её курточки и побежал обратно. Нино, на седьмом небе от счастья, глядела ему вслед, пока его фигура не растворилась в толпе прохожих.
А спустя мгновение, она, не веря собственным глазам, долго смотрела на ладонь, на которой, поблескивая серебряным замочком, лежал её маленький кожаный кошелёк. А из него торчал смятый трамвайный билет.
Мимо шли люди, поглощённые своими большими и маленькими проблемами, своими бедами и печалями, и им не было дела до Нино, как и ей теперь не было дела до них. Её больше не радовала тёплая весна, яркое солнце на голубом небосводе, буйное цветение природы и звонкое пение жаворонка. Потому что была она совершенно одна, а вокруг ни души – лишь тяжелая, неподвижная тишина, безответно поглотившая все краски и звуки жизни…
Неношеное платье
Время от времени старуха покашливала, и влажная мокрота протяжно хрипела у неё в бронхах, превращаясь в сладковатый слизистый комочек во рту. Она сидела в чёрной косынке перед гробом мужа и неотрывно теребила в руках носовой платок, часто поднося его к лицу и протирая уголком то глаза, то подрагивающие кончики губ, которые, казалось, вот-вот коснутся выпирающего подбородка. А порой медленно покачивалась в такт негромким, певучим причитаниям: «Ваня, милый ты мой, кровинушка! На кого ж ты меня покинул?! За что наказал? Теперь одна… Как же жить-то теперь?», и тогда солёные слёзы разъедали ей лицо, а мысли о трагической смерти мужа душили мучительно больно.
Чин отпевания подошёл к концу, но хромоногий дьячок в белой обожжённой рясе не ушёл: уселся себе в дальнем углу, отложил в сторонку дымящееся кадило и тихим однообразным голосом читал псалтырь. Дверь, как положено в таких случаях, была нараспашку и народ всё шёл и шёл: как-никак, а село у них большое. Одна толпа сменяла другую: одни шли, чтоб отдать последний поклон гробу, другие, чтобы поглазеть, как покоится в нём Иван. Крепкий мужчина, облачённый в новый тёмный пиджак, лежал, накрытый белой простынёй, с ликом Спасителя на груди, безвольно зажав погребальный крест в восковых руках. Слабый мерцающий огонёк свечи бросал косые лучи на его заострившийся нос и загорелый морщинистый лоб с насупленными бровями: он словно сердился на тех, кто уложил его в эту окроплённую святой водой холодную некрашеную домовину, сколоченную из свежеструганных сосновых досок.
Сельские бабы, только ступив в дом, принимались голосить с самого порога. Мужики же поначалу копошились в сенях, топали валенками, сбивая с них снег, затем украдкой заглядывали в горницу, где проходило прощание, жались по углам, больше удивлённые и испуганные, чем огорчённые. Входили бочком и, бросая несмелые взгляды на Ивана, торопливо скидывали шапки, крестились на иконы, обкладывали гроб мокрым, колючим еловым лапником и, оборачиваясь, сочувствие вдове выражали. Бабы рассаживались на лавках, что стояли полукругом перед гробом, пускали слезу, а потом удручённо головами в косыночках мотали и о чём-то шептались меж собой. Кто-то из них обронил, что, мол, рановато Иван отдал Богу душу, дюжий был мужик, мог бы ещё жить да жить. Вдова не повернула головы: всё шевелила губами немые причитания да теребила платок.
Глядь, в дом вбежал полоумный Васька-заморыш, ногами к гробу засеменил и раз – что-то сунул в ноги покойному.
– Эй, Васька, ты чё учудил, дуралей? – хмуро спросил сосед, наклонившись и дохнув табачищем с лёгким перегаром, когда тот примостился рядом.
– Да Васька чё? Васька всё село обежал, нигде цветов нету. Непогодица. Все Ваську журят, а Васька Ивану шоколадку…
В какой-то момент ей показалось, что покойник тяжело вздохнул, и от неожиданности она вздрогнула всем телом, едва не лишившись чувств. Зашлась родимая затяжным кашлем, закрыв рот рукавом и так давясь горлом, будто её рвало.
– Худо мне, Клава, – произнесла она, едва успокоившись.
– Дак это с непривычки, Люда, – закивала соседка, махнув рукой. – Уж на что я привычная – ведь мужа, брата и сына схоронить успела – и то… Вот я тебе ща водицы подам, даст Бог полегчает. Изморилась ты, два дня не пимши, не емши, кишка кишке, поди, кукиш кажет. И глаза все вконец выплакала, горемычная… Ты того, ступай, поешь малость, а мне идти надоть, скотинка некормленая ждёт.
Права была Клавдия – Люда с головой ушла в своё горе. Как прознала про мужа, так ноги и подкосились, ничком на пол рухнула и забилась, завыла как собака. Клавка, которая прибежала на этот вой, смотрела на неё и, поди, думала, что Людка сошла с ума. Она не смыкала глаз вторые сутки кряду: пока покойник в доме, надобно держать всенощную. Иван работал дежурным электромонтёром, спешил по вызову устранять всякие неполадки. Всё твердил, что без электрика в жизни – ни туды и ни сюды. Электрик, он ведь всё может: захочет – свет зажжёт, захочет – погасит, короткое замыкание может удлинить, а длинное – укоротить. Выходит, без электрика миру хана придёт. А тут током его и убило, пока был на халтурке у Валентины. У той завсегда что-нибудь не так, как у людей. Живёт, говорят, одна, без детей, без мужа. Дом старый, от бабки остался. В нём то утюг заискрит, то розетка в стене задымится, то пробки к чертям вылетят, а то и проводка дотла сгорит. Вот Иван по доброте душевной и пособляет ей. А в этот раз Валькин телевизор чинить полез, безбашенный, так его на месте как шандарахнуло. На смерть! В морге сказали, что под градусом был да лыка не вязал, и кончился без мучений – моргнуть не успел.
На приличные похороны денег не хватало. Но сельчане выручили, всячески пособляли Люде устроить мужу подобающее прощание, да такое, чтоб никто не осудил. И что б она делала без этих добрых людей? Бабы суетились на славу, прибирая в доме. Засучив рукава и попутно вытирая сопли, драили мылом полы, окна и двери, вытирали от пыли образа, завешивали сервант да зеркала. Лавочек вот натаскали – собирали с миру по нитке. Да ведь всё ж надо было сделать одним пыхом, пока в доме не было тела усопшего: все хорошо помнили, что сор при покойнике вымести – всех из дому вынести. А мужики вот с машиной помогли, доставили Ивана из больничного морга, за гробом съездили, недорогим, правда, но очень добротным, священника местного пригласили. Свечи для погоста прикупили, лампадку разожгли, чтобы душа его, покинув тело, не испугалась темноты, а свет пламени её успокоил.
Стыд да срам, что родной сын приехать не смог – дела у него да заботы. Говорит, Москва слезам не верит, тут в оба глядеть надо, иначе с голым задом останешься! Всё у него шито-крыто: с кем живёт и как, что ест и пьёт, где лямку тянет – ничего ей толком не знамо. Безалаберный, даже внука ей с Иваном не подарил. Господи, образумь, ты его! Вернулся бы в село. Нашёл бы себе девку здоровую, работящую. Детишек бы на свет Божий нарожали. Жили бы как люди… Хорошо хоть депешу прислал, короткую, в три слова: «соболезную похорони оплачу».
На освободившееся Клавкино место тихонько подсела Алевтина. Обняла, руку сжала и что-то шепнула на ухо, да только Люда не разобрала слов, сидела с каменным лицом. А та опять за своё, что-то ей там про Ивана на тихой ноте бубнит. Люда и прислушалась глухо, хоть и не повернула головы.
Не убивайся ты так, подруга, услыхала она. Не стоит он того! Всю жизнь гулял от тебя, ни одну юбку мимо не пропускал. Вот те крест святой, не вру. Чего глядишь? Да неужто не ведала? А год назад с Валькой снюхался, жил с нею блудно. Вальку-то Раскладушку всё знают. Охомутала она его – кого хошь спроси! А в тот день благоверный твой квасил у неё во всю – дым коромыслом стоял. Я ведь там близёхонько, по-соседству. Напились до поросячьего визгу. Ванька твой орать стал, что изменяет ему Валька. Да оно, небось, так и было. Валька, как-никак, баба видная: краснощёкая, стройная, грудастая. Вон воротилась из города – накувыркалась там, поди, с лихвой. Рыжие патлы свои распустила, напомадилась, хоть стой – хоть падай, огляделась, приметила себе мужика крепкого, работящего, раз в гости позвала – по хозяйству подсобить, другой, третий, да и увела. Да чтоб мне сквозь землю провалиться, коль наговариваю! Хоть и ведаю, что негоже поминать покойного дурным словом – душа его на том свете умается, но как по мне, коли чего не так, то и молчать не стану, правду-матку всю выложу, как на ладошке.
Люда замерла, чувствуя, как бешено застучало её сердце и кровь ударила в лицо. Руки её задрожали, тело обмякло, а всё перед глазами, как в сильный ливень, поплыло. Верно в народе говорят: жена об изменах мужа узнает в последнюю очередь. Всё внутри взбунтовалось, вскипело… Получается, все знали! Да молчали, грех Ванькин покрывали.
Будь на твоём месте, продолжала Алевтина, извела бы её на корню, змею подколодную, тварь поганую, зелья бы подсыпала или порчу навела. К слову сказать, я тут вот что вчерась надумала: покласть бы в Иванину домовину вещицу её какую, трусики разноцветные али лифчик – всякий раз на бельевой верёвке качаются туды-сюды, мужиков закликают. Покласть – и всего-то делов. Ахнуть не успеешь – вослед за супружником твоим покандехает.
За окнами мело не на шутку. Ветер с силой, размашисто кидал снежные хлопья в стекла, в белой пелене расплывались, терялись силуэты изб и деревьев. Снег, едва долетев до земли, начинал таять, превращая её в месиво из грязи и воды. Был слышен лай собак вдалеке и скрип сверчка где-то в углу. Погребальная свеча медленно догорала, сероватый воск таял, стекая на дощатый пол, а его запах смешивался с ароматом ладана, дымок рваными волокнами нависал над собравшимися вокруг гроба усопшего.
Зловещую тишину нарушило лёгкое шуршание ткани: упало покрывало с зеркала, обнажив леденящую душу картину. Что это – явь иль сон? В горнице гроб стоит, входят и толпятся мужики и бабы, несут на валенках грязный снег, хлопочут, утешают и кручинятся. Но за спиной её, пустозвонки, всё судачат да языки чешут, думая, что она этого не видит. Видит!
Знали все! И молчали. А теперь шастают туда-сюда, сороки, лишь бы кости Ванькины перемыть, и, может статься, кое-кто в душе даже радуется беде её.
Темнота внутри зеркала кое-где рассеивалась дрожащим огоньком лампадки, пытаясь заполнить звенящую пустоту отчаянья и злости, пробиравшую Люду до самого сердца.
Ясно, во всех красках, представила, как Валька хитростью заманила Ивана, поила его холодной брагой, стакан за стаканом, а потом растрепанная, шалая, в сползшей с плеча кофте, устроилась подле него, телка захмелевшего, стала будить-тормошить пунцовыми губками: «Да не спи ты, соколик! Полюби меня сильно…» Иван, дурья башка, что-то мычал со сна, отталкивал ее, а Валька кофточку скинула, и сисечки свои напоказ – остренькие, как у её козочки Зорьки, в разные стороны глядящие тугими сосками.
Вздохнула прерывисто да на мужа глянула – лежит, не шевелится, непутёвый. Вздрогнула, вспомнив про его частые отлучки: охоту на три дня и три ночи, рыбалку на вечернюю зорьку – говорил, перед закатом лучше клюет, – а то и халтурку на стороне, когда неделями ждала – не могла дождаться. А возвращался домой пьяным, взгляд мутный – ты и не пикни, не суй свой нос в посторонние дела, щи вари да знай место, женщина. А ежели что не так, вставал на дыбы, посылал крепко в Тьму-Таракань, так то и ладно, а то мог ведь и промеж глаз. Ох, и слепая ж была! Дура!
Лицо её исказила судорога, глаза закатились, а грудь порывисто заколыхалась от кашля. И сызнова отдалась во власть воспоминаний, и замелькали пред ней картины прошлого, которые она в обычной жизни старалась не ворошить. Вот здесь ей восемнадцать годков. Хороша! Приударил за ней Иван, гармонист чубастый, первый парень на селе, девок щелчком пальца подзывал! Всё твердил: «Гуляй ты, Людка, пока молода да красива. Другие ж девки гуляют. Чего тебе-то порожнем ходить? Неужто хуже других?» Иван завидным женихом считался, зарплата для села большая и служебным грузовиком пользовался, как личным. Начальство позволяло держать машину в заулке возле дома, вот и катал он девчат, а те визжали от радости. А как-то однажды балясами её заморочил, затащил на сеновал, подальше от людских глаз, где сладко пахли недавно скошенные травы. Тьма там стояла – глаз выколи, только слабо светились щели в полу да кое-где сквозь дырявую кровлю пятнышки лунного света пробивались. Не обхаживал, не задабривал, не упрашивал. Огляделся вокруг, сплюнул, взял сзади за груди. Сдавил жадно, до боли. Кинул на ворох сухой травы. Прижал собой в темноте, целовал лебединую шею, ласкал, рукой под белый сарафан забрался. Уступила она. Одна только мысль вертелась: скорей бы только всё кончилось. А он потом всю жизнь попрекал да и унижал, что не честной за него пошла, не блюла себя, как положено, отдалась до свадьбы.