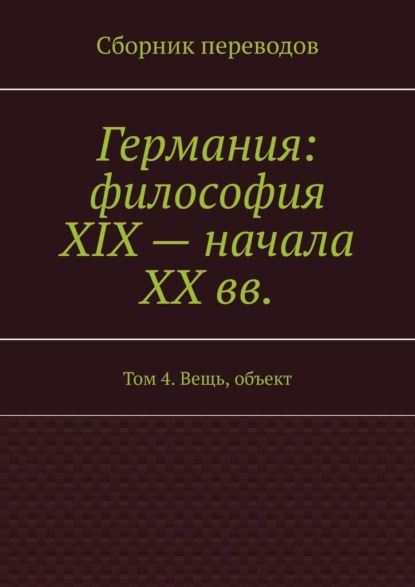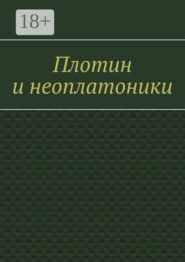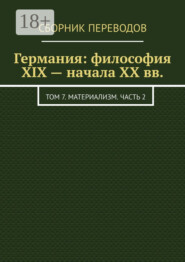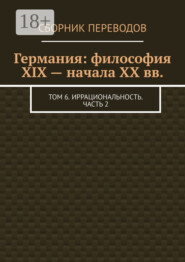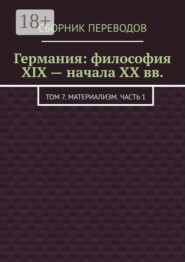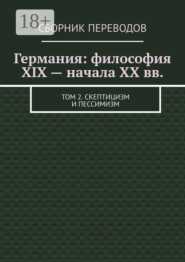По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 4. Вещь, объект
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отношение ожидания.
Всем знакомы частые случаи «неправильного суждения», недосмотра, механической путаницы. Я хочу взять ручку, а беру нож, лежащий рядом; я хочу войти в свою комнату, а открываю дверь той, что рядом. В таких случаях мы вполне привыкли говорить об «ошибке»: я извиняюсь перед незнакомцем, к которому случайно зашел в комнату, словами: я «ошибся» дверью. Но мы можем говорить об ошибке и истине только там, где есть суждение, а в описанном случае – по крайней мере, я имел в виду именно такие случаи – я вовсе не высказывал суждения, а просто механически выполнял действие. Таким образом, даже если само действие не является «суждением», оно должно каким-то образом представлять или включать его.
Теперь нетрудно понять, как все это увязывается. Совершая действие, я имею определенную цель; действие – это средство для ее достижения. Теперь мы берем средства, которые соответствуют часто осознаваемой и привычной цели, чисто механически, в соответствии с известными законами умственного упражнения и механизации – как взрослые люди, которые «умеют» писать, нам больше не нужно представлять себе отдельные сложные движения письма, необходимые для того, чтобы одно за другим нанести на бумагу определенное слово, но эти движения происходят автоматически в соответствующей последовательности. Все «способности» предполагают такую механизацию. Конечно, я должен изначально научиться тому, что я «могу» делать, то есть я должен предварительно представить себе средства, которые ведут к желаемой цели, я должен ознакомиться с ними как со средствами и сознательно оценить их, прежде чем я смогу механически применять их.
Если я «ошибаюсь» или заблуждаюсь в выборе средств, как в приведенных примерах, то «ошибочным» или «заблуждающимся» здесь, очевидно, является на самом деле суждение о том, что совершаемое действие приведет к желаемой цели, как мы можем сразу сказать: ожидание, что воображаемая цель наступит в результате действия[23 - Суждение о том, что А является «средством» для достижения В, очевидно, означает то же самое, что и: А является «условием» для В, т.е. как общее ожидание того, что после А наступит В.]. Это ожидание, однако, в действительности не переживается, поскольку сознательное воображение и суждение о средствах, которые должны быть выбраны, заменено механическим схватыванием и обращением с этими средствами, механическим действием, в котором первоначальное ожидание присутствует только как бессознательная установка ожидания. Это отношение ожидания, однако, проявляется наиболее отчетливо в непосредственном сознании удивления и разочарования, которое сопровождает неожиданный успех неправильного действия, ошибки и т. д.
Случаи такого рода показывают нам, во-первых, что в психической жизни бессознательная установка ожидания может очень часто занимать место ожидания в реальном смысле, которое выражается в механическом действии и лишь иногда проявляется в сознании, например, когда ожидаемое не материализуется в чувстве разочарования, и, во-вторых, что мы относимся к такой установке или действию точно так же, как к реальному ожиданию, то есть описываем его как «правильное» или «неправильное».
Теперь возникает вопрос: не проливает ли этот факт свет и на суждение в той мере, в какой оно имеет место при произнесении и понимании лингвистических предложений? Не являются ли ожидания, в которых в предыдущем параграфе мы искали смысл таких предложений, все еще психологически присутствующими в говорящем и слушающем, только в форме бессознательных ожиданий? Во время прогулки по лесу я собираюсь небрежно переступить через черную полоску на земле, когда мой спутник сообщает мне, что эта полоска – гадюка. Эта информация оказывает на меня определенное воздействие, она совершенно мгновенно вызывает чувство ужаса, отвращения, непроизвольный шаг назад. Это действие и эти чувства имеют свою причину в неприятной и опасной встрече, но они возникают или, по крайней мере, могут возникнуть до того, как я смогу сознательно представить себе неприятные ощущения от наступления на мягкое, живое тело змеи или даже опасность змеиного укуса. Они являются выражением определенных ожиданий, но происходят так же механически и непосредственно, как и действия в ранее рассмотренных случаях. Разумеется, необходимым условием является то, что я знаю значение слова «гадюка», что я выучил его в прошлом и что я знаком с этим значением (точно так же, как я должен, во-первых, знать действия, которые ведут к определенной цели, а во-вторых, практиковать их так, чтобы они происходили механически, без размышлений или сознательного воображения в нужный момент). В противном случае мне придется сначала сознательно вспомнить, что я должен знать от «сумматора», прежде чем я буду действовать в ответ на это сообщение.
Этот пример можно заменить любым другим. Я вижу на столе стакан с бесцветной жидкостью, и мне говорят, что это серная кислота; следствием этого сообщения является то, что я немедленно и автоматически веду себя по отношению к стакану и его содержимому иначе, чем если бы мне сказали о стакане с водой. Это поведение снова является выражением ожиданий, которые вовсе не обязательно должны быть осознанными ожиданиями.
Возможно, кто-то возразит, что такое поведение возникает только тогда, когда я понимаю сделанное сообщение; оно является простым следствием этого понимания, а не чем-то, что относится к пониманию или суждению как таковому. Это возражение наполовину верно, наполовину нет. Конечно, автоматическое действие – это не «понимание», а следствие понимания; вопрос лишь в том, приходит ли в сознание само понимание, а не только его автоматическое следствие. Вопрос в том, не состоит ли смысл предложения в ряде ожиданий, а понимание этого смысла, следовательно, в лелеянии или переживании этих ожиданий, которое может быть заменено бессознательным отношением ожидания, так что в сознание входят только те действия, которые мы знаем как последствия этих ожиданий. [Ранее, конечно, уже отмечалось, что понимание языковой единицы также выражается для нашего сознания в особом эмпирическом характере, который облекает данную модель: слово кажется нам знакомым (а не просто «известным»), и я сравнил характер знакомости с характером, который имеет для нас известный и знакомый инструмент. Следующие замечания сделают еще более ясным, в какой степени слово действительно является таким инструментом].
Очевидно, мы могли бы рассмотреть те же примеры с точки зрения говорящего. Собеседник, который обращает мое внимание на гадюку, очевидно, хочет дать мне определенную установку на ожидание, это то, что он на самом деле хочет донести до меня. У него самого такое же отношение, и именно оно выражается в произнесенных словах. Но опять-таки, ему не нужно сознательно вынашивать ожидания, о которых идет речь, – как желание обратиться к определенной книге автоматически заставляет меня совершить ряд действий: встать, подойти к двери, нажать на ручку, подойти к книжному шкафу и т. д., так и здесь желание защитить другого человека от опасности при виде извивающегося змеиного тела приводит непосредственно к целесообразным средствам данного восклицания.
Следует помнить еще об одном: мы не можем одновременно испытывать большое количество различных ожиданий, но можем быть настроены на разные вещи в одно и то же время[24 - В исследовании, которое на самом деле преследует психологические цели, здесь, конечно, должны быть сделаны различные различия. С точки зрения психологии, существуют различные типы настроя. Существует напряженное ожидание определенных вещей – вспомните, например, поведение испытуемого в тесте психологической реакции – и это ожидание не может (и в большинстве случаев не будет) принимать форму сознательного ожидания и воображения того, что ожидается, а скорее бессознательного ожидания, которое проявляется в сознании только через интенсивное чувство напряжения и случайные вспышки воображения. С другой стороны, существует привычное отношение ко всем видам вещей, которое присутствует в каждый момент нашей психической жизни и которое дает о себе знать в нашем сознании только через механически выполняемые действия. Первый случай характеризуется в то же время тем, что мы настроены с большей исключительностью на определенные вещи, отчего в то же время страдает привычная настроенность на другие вещи (явление рассеянности у выученных и сильно занятых), и тем, что мы все время «знаем», т. е. можем в любой момент указать и сознательно представить себе, на что мы направлены, чего нет во втором случае. Но между этими двумя формами существуют и постепенные переходы; одна может превратиться в другую.]. Из этого автоматически вытекает значимость использования слов: одно слово служит для объявления и передачи целого ряда ожиданий, которые сами по себе потребовали бы много времени и усилий для объявления или передачи. С помощью одного слова «серная кислота» я готов к тому, как будет вести себя вещество в стакане передо мной в различных направлениях, и способ, которым я должен с ним обращаться, также определен как само собой разумеющееся.
Разумеется, ожидания, которые вызывает у меня отдельное слово, определяются тем значением, которое я научился связывать с этим словом, и это значение может во многом отличаться от того, которое с ним связывает кто-то другой. Химик понимает «серную кислоту» иначе, чем обыватель. Но столь же несомненно, что разница не принципиальна; она состоит лишь в том, что в одном случае ожидания больше и точнее, чем в другом.
7. Решение проблемы номинализма.
Вещные и родовые имена как средство лингвистического обобщения суждений.
Смысл всех наших суждений заключается в определенных ожиданиях (к которым мы добавляем воспоминания и эмпатии в соответствии с вышесказанным). Это утверждение теряет парадоксальность, которая первоначально к нему прилипла, если учесть, что нам не нужно искать эти ожидания как таковые в сознании человека, выносящего или слышащего суждение, а скорее – при условии знакомства с используемыми словами – что они, как правило, заменяются бессознательными ожиданиями. Конечно, тот, кто считает, что осмысленное употребление любых слов или предложений всегда предполагает сознательный поиск, (пусть и неясное) существование смысла, должен найти это утверждение парадоксальным. Но, на мой взгляд, нигде так не видно, как здесь, что это мнение не соответствует природе лингвистического символа, поскольку не признает его важную функцию: функцию, которая состоит в том, чтобы избавить нас от сознательной визуализации всеобъемлющего значения, как было объяснено в конце предыдущего параграфа, или что то же самое означает – это выражение было использовано ранее – представление значения. Важность лингвистического символа для одиночного мышления также основана на этом:
слово удерживает вместе, так сказать, многообразные установки ожидания, которые в противном случае (без такого ассоциативного центра, к которому они все привязаны) разлетелись бы в разные стороны.
Если мы знаем только коммуникативную функцию слова, а не его репрезентативную функцию, то мне кажется непонятным, почему мы так сильно привязаны к понятиям слова не только при коммуникации, но и при уединенном воплощении наших мыслей.
Здесь мы подошли к тому моменту, когда решаются проблемы, постановкой которых я завершил первую главу и начал вторую: проблемы «вещи» и понятия или реальных и идеальных объектов. Я говорю о вещи, но я никогда не могу прямо или косвенно привести то, что я называю этим именем, в состояние бытия; то, что я постигаю непосредственно, всегда является лишь многообразными и изменчивыми проявлениями вещи. Но как может слово «эта вещь здесь» иметь для меня конкретное значение, если это значение никогда не может быть доведено до реальности, если названный объект не может быть отнесен к простому имени? Теперь мы можем ответить на этот вопрос: мы, конечно, никогда не сможем сделать саму вещь данностью, но мы можем сделать значение предложения: Это вещь (или, скорее, видимость вещи). Ибо эта пропозиция, выраженная данным фактом, обозначенным как «это», является лингвистическим резюме ряда ожиданий, которые мы можем возлагать на себя по отдельности. Характер, то есть содержание, этих ожиданий, естественно, зависит от конкретного понятия реального объекта, которым мы пользуемся, но форма самих ожиданий везде одинакова: они всегда являются общими предсказаниями содержания восприятия, которое последует за данным здесь содержанием при определенных известных нам условиях. И точно так же, только несколько более сложным образом, в таких ожиданиях может быть полностью реализован смысл всех предложений, в которых «вещь-концепт» выступает в качестве субъекта или предиката. Слово же, которое «обозначает» вещь или реальный объект[25 - То, что мы различаем и другие реальные объекты, помимо вещей, для которых верно то же самое, мне нужно только еще раз отметить здесь.], не имеет «смысла» само по себе в том же смысле, что и это слово, его «имеющий смысл» состоит скорее только – как и в случае синкатегорематических выражений [слова, которые встречаются не самостоятельно, а в связи с именами собственными – wp] – в функционировании в качестве части значимых целых.
Познание «вещи» может означать не что иное, как: познание различных ожидаемых явлений, в которых «та же самая вещь конституируется». Это «конституирование», однако, состоит в том, что рассматриваемые явления связываются вместе в соответствии с общими законами ожидания, ибо: если мы говорим о данном нечто, что оно является появлением той или иной конкретной вещи, это означает не что иное, как: впоследствии эти и те вполне конкретные другие данные факты должны быть ожидаемы в неизвестных условиях. Заметим, что наличие, существование вещи – это не синоним существования, психического присутствия ожиданий, а действительность, истинность этих законов ожиданий. Я питаю эти ожидания (сознательно или бессознательно) означает то же самое, что: я считаю эту вещь существующей или считаю то, что мне дано, видимостью такой вещи; вещь действительно существует означает то же самое, что: мое ожидание (или данное ожидание, независимо от того, питаю я его или нет) является истинным или действительным.
Это также объясняет, в какой степени мы можем говорить об «одной и той же» вещи, которой соответствует множество и разнообразие явлений. Вещь существует как «та же самая», хотя ее внешний вид меняется, потому что те же самые ожидания остаются действительными или истинными. Я вижу определенную цветную форму, которую сразу же распознаю и обозначаю как переднюю часть стеклянного куба. Смысл этого суждения включает в себя ряд ожиданий, связанных с возникновением других визуальных, тактильных, гравитационных и т. д. восприятий, которые у меня есть. Они связаны с возникновением других восприятий зрения, осязания, веса и т. д., которые у меня появятся, когда я «обойду куб», «возьму его в руку» и т. д., короче говоря, когда я выполню условия, которые мне известны и мыслимы. Все эти ожидания остаются верными независимо от того, действительно ли я, например, «хожу вокруг куба», то есть выполняю соответствующие условия или нет; они также остаются верными во всей своей полноте, если я выполняю одно из условий, например, если я теперь смотрю на куб со спины и тем самым, так сказать, лишаю смысла все остальные. Даже если я переверну куб и тем самым лишу себя возможности видеть его лицевую сторону, все равно остается в силе утверждение, что если бы я прикоснулся к его лицевой стороне, у меня возникло бы определенное тактильное восприятие. Ясно также, что «одно и то же» может восприниматься разными людьми, поскольку закономерно связанные явления могут быть распределены между сознанием нескольких индивидов: Я вижу в своем поле зрения определенный объект и ожидаю, что при определенных условиях другой человек воспримет соответствующий объект. В частности, мое утверждение, что то, что я воспринимаю, не является «простым образом сна», не «галлюцинацией», а, напротив, «реальной вещью», относится прежде всего к обоснованности таких ожиданий, которые включают в себя эмпатию.
Наконец, мы можем также приписать той же самой вещи постоянное существование в течение определенного времени, а именно тогда, когда ожидаемое содержание распространяется на это время. Если я утверждаю, что в определенном месте Германии есть гора, то это подразумевает не только ожидание того, что я восприму ее сейчас, но и того, что я восприму ее через год при соответствующих условиях (которые я обобщаю как путешествие туда). (Впрочем, это относится не только к «вещам» в кратком смысле, но и, например, к реальным процессам: если я растворяю кусок цинка в серной кислоте и это растворение занимает некоторое время, я все равно могу говорить о «том же самом процессе», который происходит здесь в течение всего этого времени. Вещи в собственном смысле слова обладают лишь той особенностью, что распределенные во времени и связанные законом явления остаются качественно теми же самыми. К этому различию мы вернемся позже).
Еще одно слово об упоминавшихся несколько раз «условиях». Можно возразить, что данная формулировка этих условий (когда я хожу вокруг вещи, протягиваю руку и т. д.) уже предполагает вещь или, по крайней мере, понятие вещи вообще. Но это, очевидно, касается только формулировки. По понятным причинам я не могу описать эти состояния словами, не используя понятия вещей (точно так же, как мы везде учимся сначала называть вещи, потому что только вещи, а не состояния, могут иметь репрезентативную, а также коммуникативную функцию слова); я также могу сообщить другому только то, что каким-то образом находит отклик в его сознании; поэтому наши слова последовательно описывают не отдельные состояния, а «вещи» и «роды», и мы можем лингвистически характеризовать отдельные состояния только окольным путем через вещи и роды. Поэтому мы понимаем условия как чистые факты, например, соответствующие ощущения движения при «ходьбе». Тот факт, что мы часто не можем спонтанно представить себе эти ощущения по отдельности, не вызывает возражений, поскольку это происходит там, где нам уже давно не нужно это воображение, потому что мы можем непосредственно реализовать соответствующие условия, когда это необходимо. (Напротив, сравните случаи, когда мы постепенно учимся произносить звук, чуждый нашему родному языку. Здесь мы можем и должны сознательно визуализировать соответствующие движения языка, нёба и т. д., прежде чем мы действительно сформируем звук, кстати, не имея возможности описать соответствующие движения научно, т. е. с помощью соответствующих понятий о вещах (по крайней мере, если мы не изучали фонетику). Чем больше такие движения практикуются, то есть чем больше они могут быть реализованы непосредственно и инстинктивно, тем больше отношения меняются на противоположные: мы разучиваемся сознательно представлять себе данные ощущения и вместо этого учимся описывать их «точно», то есть с помощью общепонятных понятий, и тогда эти описания способны заменить воображение: простая словесная просьба протянуть руку приводит к движению (при наличии соответствующей «воли»), причем мне не нужно представлять себе данные движения). Конечно, было бы недоразумением, если бы кто-то захотел возразить, что такие ощущения движения не являются реальными условиями перцептивного изменения относительно вещи. Конечно, нет, но мы не говорили здесь о «реальных» условиях («причинах»), но мы называем данное содержание A «условием» B, если мы можем в общем случае ожидать B, следующего за A. Наконец, результат наших рассуждений иллюстрируется схемой. Если мы обозначаем данное восприятие как появление вещи («это» – вещь того или иного вида), то это обозначение является обобщающим языковым выражением ряда общих ожиданий. С психологической точки зрения, оно является проявлением этих ожиданий у говорящего и вызывает те же ожидания у слушающего (при условии, что он «усвоил» значение слов); с логической точки зрения, оно является языковым символом, называющим или обозначающим данные ожидания (а не переживания ожиданий). Эти ожидания имеют вид: после заданного сейчас A при условиях B произойдет C: A -> ? -> B. (Пример: то, что я вижу здесь, – это тело, говорит: если я совершу определенные движения, мое визуальное перцептивное содержание изменится таким-то и таким-то образом, если я протяну руку, я восприму твердость и сопротивление и т. д.; это тело определенного вида, например мел, далее говорит: если я применю кислоты, я получу тот или иной опыт и т. д. При этом переживания относятся к прошлым опытам того же рода и к опытам, сделанным другими, и осложняются воспоминаниями и эмпатиями). Пусть теперь у нас есть серия ожиданий: A -> ? -> B, A -> ?? -> C и т. д., а также B -> ?? -> C и т. д., тогда для нас A, B, C и т. д. становятся появлениями «одного и того же» реального объекта. Если я суммирую только те ожидания, которые, следуя за A, ожидают B, C, D и т. д., я получаю суждение «A есть X», то A» также принадлежит реальному X, характеризуемому закономерно связанными явлениями B, D, D. Если, с другой стороны, я думаю обо всех ожиданиях, составляющих явления некоторого реального, собранных и обобщенных в лингвистическом выражении суждения:
A -> ? -> B B -> ?? -> A C -> ??? -> A
A -> ?? -> C B -> ???-> C A -> ??? -> B
то это выражение суждения может быть только одночленом, в левой части не A, не B, не C, а X, полученный суммированием A, B, C… а в правой части – то же самое, т.е.: X -> X. И действительно, лингвистическое суждение, которое здесь получается, является одночастным суждением, а именно «экзистенциальным суждением»: реальный объект X «существует». Он существует, т.е. все его явления будут происходить при соответствующих условиях.
Здесь возникает другой вопрос. Стало понятно, что когда мы оформляем данный материал опыта в суждения, эти суждения должны иметь форму ожиданий; также легко понять, что когда перед нами ряд ожиданий, связанных в описанную выше форму, мы имеем тенденцию обобщить их в языковом выражении. Но почему наши ожидания имеют форму: A -> ? -> B – За A следует B при условиях ? – эта форма, в которую, как мы видели, могут быть облечены элементарные суждения, содержащиеся в наших лингвистически сформулированных суждениях? Почему именно эта более сложная форма вместо, казалось бы, более простой? A -> B – за A следует B? Более подробно мы вернемся к этому вопросу позже, а пока отметим только одно: Легко понять, что из практических соображений, с целью «ориентации», мы требуем знать, в каких различных направлениях каждое вновь возникающее содержание опыта может служить нам знаком для будущих содержаний (как предупреждающее и обещающее предзнаменование). Этой цели, очевидно, лучше всего служит ряд ожиданий, который говорит нам, чего следует ожидать при условиях ?, ??, ?? и т. д., следующих за тем же A, т. е. ряд ожиданий, выраженных в предложении «A есть видимость реального Z».
Понятие рода, идеального объекта, можно сделать понятным очень похожим на понятие вещи, в более общем случае реального объекта. Мы заменяем ожидания A -> ? -> B, A -> ?? -> C, B -> ?? -> C и т. д. (т.е.: за перцептивным содержанием A следует перцептивное содержание B при условиях ?) суммой элементарных суждений о равенстве: A = B, A = C, B = C и т. д. (Эти суждения о равенстве являются также, если мы понимаем их не как простые утверждения сознания равенства, а как суждения, которые говорят о данных содержаниях A и B, что они равны, что между ними существует объективное равенство, как это автоматически следует из сказанного ранее, ожиданиями, а именно ожиданиями, содержащими мысль, что там и тогда, где и когда я снова сравню «те же самые» A и B (то же самое содержание, а не реальный объект, названный тем же самым образом), снова возникнет то же самое суждение о равенстве). Если эти суждения о равенстве обобщаются в выражении суждения, то создается «понятие» рода, общего рода, под которым понимаются A, B, C… создается, то есть создается новое слово G, которое само по себе не обозначает постигаемого объекта, но имеет определенный смысл постольку, поскольку предложение «A есть G» (это «есть» красный, то есть подпадает под родовой термин красный) обозначает ряд мыслимых отношений равенства.
Подчеркну прямо: это изначально идентичные, а не похожие объекты, которые как таковые принадлежат к одному роду, одному понятию. Об отдельном абстрактном моменте цвета цветной поверхности, который я признаю равным моменту цвета других поверхностей, я говорю, что он «есть» небесно-голубой, то есть принадлежит именно к этому роду; об абстрактном моменте высоты тона – что это высота двухтактной буквы С. Конечно, я могу сказать и о цветной поверхности в целом, что она «есть» голубая, о тоне – что это тон именно такой высоты. Но, строго говоря, такое суждение содержит: во-первых, оно говорит, что эта поверхность «имеет» цвет (тон – высоту), то есть с ней связан цветовой момент на манер абстрактного частичного момента, и, во-вторых, этот частичный момент «есть» синий, подпадает под понятие синего.
Наконец, я могу также сформировать понятие синей поверхности или «тональности тона А», под которое подпадают все объекты, которые одинаковы в той мере, в какой о них выносятся одинаковые суждения, во-первых, что они «имеют» абстрактный частичный момент, и, во-вторых, что они «являются» синими или тональностью А. Объекты, подпадающие под это понятие, могут быть неравными в другом «отношении», то есть в отношении другого частичного момента – две поверхности синего цвета могут иметь разные формы – момент, который мы должны «игнорировать», когда делаем эту подстановку под одно и то же понятие. Таким образом, существуют понятия, под которые мы подводим абстрактные частичные моменты (понятие «синий»), понятия, под которые мы подводим объекты в отношении одного частичного момента и в абстракции от других (понятие объекта синего цвета), и, наконец, конечно, понятия, под которые мы подводим целые объекты, включая все их частичные моменты.
Однако понятие одинаковости может быть также заменено специфическим понятием сходства, и сходные объекты также могут относиться к одному и тому же понятию как таковому. Таким образом, красный, зеленый, синий, короче говоря, все объекты, которые мы подводим под общий термин «цвет», не одинаковы, но похожи, и мне кажется, что это сходство должно быть отнесено к одинаковости абстрактного частичного момента всех цветов, который придал бы термину «цвет» его значение. Для нашего сознания не существует, в том же смысле, абстрактного частичного момента цвета или тона во всех цветах или тонах, как не существует абстрактного момента «высоты» или «качества цвета» (в отличие от протяженности), на который мы можем обратить внимание. Но это сходство, которое дает нам повод для формирования понятия «цвет» или «тон», является сходством определенного рода. Если мы подумаем о различных цветах, расположенных рядом, если мы подумаем о ряде тонов, противоположных им, то разница между цветами исчезает, так сказать, как только мы сравниваем цвета и тона, не выделяя отдельных частичных моментов в обоих. (Если мы поступаем именно так, то эффект, о котором я говорю, при определенных обстоятельствах разрушается, например, когда мы замечаем характерное сходство темных цветов и глубоких тонов). Цвета между собой становятся для нашего сознания относительно равными сущностями, их сходство представляется нам относительным равенством, их «качественное единообразие» (см. раздел 9 главы 1) становится относительным единством. Поскольку таким образом сходство может стать относительным сходством или группа объектов, относительно сходных в целом (не по частичным моментам), может быть отделена от других подобных групп, сходство, как и актуальное, то есть абсолютное сходство, обладает концептообразующей функцией, то есть мы говорим об объектах, что они «являются» объектами определенного вида, и подразумеваем под этим, что они могут быть отнесены к такой-то группе или серии сходств. Если мы имеем дело с объектами, различия между которыми невелики (например, разные оттенки одного цвета), то если мы поместим такую группу сходных объектов вместе и противопоставим их другим, более сильно дифференцированным объектам, то впечатление сходства может перейти непосредственно в впечатление одинаковости, точнее, в впечатление неразличимости; благодаря «контрасту» небольшие «объективно существующие различия» исчезают для нашего сознания, становятся «незаметными». Впечатление «относительной одинаковости» соответствует впечатлению неразличимости, благодаря тому же виду сравнения, сопоставления и контраста, благодаря которому мало отличающиеся объекты становятся неразличимыми, а более отличающиеся – «относительно одинаковыми». Отсюда понятно, что и относительно равные объекты мы рассматриваем как равные, то есть предполагаем идентичное «понятие». Таким образом, возникает третья форма понятий – понятия, которые уже не только включают в себя идентичные объекты или объекты, от различий которых (их разных частичных моментов) мы абстрагируемся, но и включают в себя относительно разные объекты. Наконец, объекты могут сначала казаться нам похожими, а затем это сходство может раствориться в одинаковости некоторых частичных моментов, когда огульное представление о единстве сменяется расчленяющим представлением о частичных моментах. Поэтому понятия могут сначала возникнуть психологически и генетически из объединения в группы сходства, а затем стать понятиями, под которыми мы подразумеваем объекты с определенными идентичными свойствами или частичными моментами.[26 - В вышеизложенном я попытался несколько модифицировать понятие серии сходств, введенное Корнелиусом. В двух аспектах. Корнелиус также хочет отождествить каждую оценку данного содержания по отношению к абстрактному частичному содержанию с классификацией всего содержания в серии сходств: синий круг передо мной – синий, то есть он характерно похож на ряд других фигур, которые мы лингвистически называем синими квадратами, прямоугольниками, короче говоря, фигурами «того же цвета» и «другой формы». Круглый, наоборот: он «похож» на красные, желтые, белые и т. д. круги. кругам. Аналогично с точки зрения тона, цвета тона и т. д. У меня есть три возражения против этой идеи: во-первых, она не соответствует данности. Цветная и фигурная поверхность не является абсолютным единством даже для нашего непосредственного восприятия, но содержит эти части в своеобразном и непосредственно переживаемом виде «абстрактных» частей. Во-вторых, теория не учитывает разницу, существующую между такими понятиями, как «цвет» и «тон», с одной стороны, и «карминно-красный» и «охристо-желтый» – с другой. И, наконец, в-третьих, существует ли уже существующее различие между различными группами сходства, к которым, как предполагается, принадлежит одно и то же содержание? Как показывает простой пример, одного факта сходства A с B и C, и тем более сходства B с C, недостаточно для определения группы сходства A-B-C: Пусть A – светло-красный круг, B – светло-зеленый прямоугольник, C – темно-красный прямоугольник – вышеуказанные условия сходства выполняются, но никакая группа сходства ими не очерчивается. Если говорить о различных «отношениях», в которых сходны светло-зеленый и светло-красный, с одной стороны, светло- и темно-красный, красный и зеленый прямоугольники – с другой, что позволяет «группе» сохранять свое единство за счет сходства в «одном и том же отношении», то вновь появилось то, что должно быть объяснено, ибо либо различные «отношения» – это различные объекты, которые сравниваются и обнаруживают сходство, т.е. различные абстрактные частичные моменты – тогда круг сразу же очевиден, либо это различия сходства, и тогда, похоже, качества объектов были прослежены до качеств сходства, которые сами должны быть объяснены таким же образом. Чтобы избежать этих возражений, я сначала отличил концептуальные обобщения сходных объектов (звук, цвет) от обобщений сходных частичных содержаний, а затем ввел понятие относительного сходства, которое должно указать на определенный факт: не взаимное сходство само по себе приводит к концептуальным обобщениям, а только когда оно предстает перед нами как относительное сходство сходных объектов с другими объектами (с которыми они также могут быть сходными в одно и то же время). Здесь немаловажно, что сознание сходства становится сознанием относительного сходства только через сопоставление других содержаний, не принадлежащих к данному ряду сходств, или что, говоря то же самое, сознание относительного сходства предполагает не только сознание сходства, но и сознание различия. Так как светло-красный круг, светло-зеленый прямоугольник и темно-зеленый круг, несмотря на свое сходство, не становятся относительно одинаковыми содержаниями, то их сходство не может служить для определения общего понятия.] Точнее говоря, постепенная трансформация нашей концептуализации происходит тремя путями: первоначально неразличимые содержания дифференцируются; дифференцированные содержания вновь собираются в группы относительно сходных содержаний; объекты, которые в целом просто похожи, становятся объектами с различными и сходными частичными содержаниями. Слово «синий» первоначально используется детьми для коллективного называния синих предметов, то есть всех предметов, образующих определенную группу сходства. Лишь постепенно возникает дифференциация цветового и форменного момента, когда слово «синий» становится названием именно цвета синих предметов, а отдельные оттенки синего цвета дифференцируются, и термин «синий» теперь основывается на относительном равенстве этих цветовых оттенков. —
Предложение, в котором содержание подводится под «общий термин», является – с точки зрения его смысла – суммирующим выражением ряда суждений о равенстве. В той мере, в какой это равенство существует объективно, суждение о подстановке является истинным или правильным. Мы имеем ряд таких суждений: A = B, A = C, B = C и т. д. в языковое выражение, так же легко понять, как и в случае с ранее рассмотренными суждениями A -> B, A -> C, B -> C и т. д., которые входят в суждения о «реальных объектах». В целом, мы можем рассматривать родовое понятие или понятие идеального объекта как аналогичное во всех отношениях понятию реального объекта, за исключением одного момента, что «появления» реального объекта становятся такими появлениями того же объекта через их временную связь (A следует за B при условиях ?), тогда как «появления» идеального объекта становятся такими появлениями того же объекта через их связь одинаковости или сходства. Отсюда следует, что реальным объектам можно приписать существование во времени, которое не имело бы смысла для идеальных объектов как таковых. Я могу сравнивать объекты, близкие по времени, так же хорошо, как и те, которые находятся на расстоянии столетий друг от друга. С другой стороны, вещи и роды имеют свойство быть супраиндивидуальными, поскольку «один и тот же» род может иметь свой вид в одном и другом индивидуальном сознании, а именно если мы предполагаем, что содержание в разных сознаниях одно и то же.
Теперь мы можем кратко подвести итог нашего исследования: простые или составные языковые выражения, которые мы используем, называют частично феноменальные, частично реальные и идеальные объекты. Реальные и идеальные объекты не являются феноменальными как таковыми, то есть их нельзя заставить быть данными. Если, следовательно, мы понимаем «смысл» слова как нечто, названное этим словом, что мы можем воплотить в реальность для себя, то слова, обозначающие идеальные и реальные объекты, сами по себе не имеют смысла или названные ими объекты оказываются фиктивными объектами, словами в смысле номинализма – простыми, т.е. бессмысленными именами. Но мы используем эти имена, потому что с их помощью мы выражаем в языковых терминах суждения ожидания, в которых мы связываем данное содержание. «Существование» этих фиктивных объектов и есть действительность суждения, о котором идет речь.
То, что было сказано здесь о функции существительных, обозначающих вещи и жанры, в принципе также очевидно, на что можно хотя бы намекнуть, если мы рассмотрим общие условия, от которых зависит возникновение и развитие языка.
Первая предварительная ступень языка, как принято считать, дана в непреднамеренном произнесении переживаний, как мы до сих пор знаем их в нашей развитой языковой жизни в междометиях [эмоциональные восклицания «ах», «ох», «пфуй» – wp]. Вторая предварительная стадия состоит в том, что за этими междометиями следует «понимание» со стороны слушателя, воображение, которое «вчувствует» соответствующий опыт в создателя звуков. Третья стадия достигается, когда эти звуки намеренно производятся с целью быть понятыми. Здесь звуки начинают приближаться к реальным образованиям языка в той мере, в какой они выполняют коммуникативную функцию. Если мы теперь понаблюдаем за тем, что передается на этих примитивных уровнях, то это всегда эмоционально подчеркнутые ожидания – ожидания, содержащие момент страха или желания, так же как страх и желание, которые сначала выражаются непосредственно в ярких междометиях и вызывают сопереживание у слушателя. В качестве примера достаточно вспомнить заманивающие и предупреждающие призывы животных, которые, вероятно, являются первыми такими намеренными сообщениями.
Развитие настоящего языка, очевидно, происходит путем увеличения числа ожиданий, передача которых представляется необходимой или желательной, что, конечно же, должно чрезвычайно возрасти в тот момент, когда существа объединяются для совместной работы в более широких целях. Этот рост ожиданий, подлежащих передаче, изначально приводит к развитию определенных звуков, которые служат только этой цели коммуникации и каждый из которых также приписывается определенной коммуникации как средство: звуки становятся суммой искусственных символов, значение которых необходимо усвоить. Начало этому уже положено в животном мире, когда, как в случае с некоторыми стадными животными, используются различные предупредительные сигналы, например, для оповещения о различных опасностях.
Наконец, перед нами стоит задача создания фонетических символов для произвольно или неопределенно большого числа различных ожиданий, которые позволят передать эти ожидания слушателю. Настоящая трудность этой задачи, очевидно, заключается в том, что количество этих символов неизбежно ограничено. Теперь легко понять, что для преодоления этой трудности мы будем использовать два средства. Во-первых, мы будем обозначать одним и тем же символом ожидания, которые всегда связаны друг с другом, одно из которых не возникает без другого, – я напоминаю о том свойстве наших лингвистически фиксированных суждений, что каждое из них содержит сумму ожиданий. А во-вторых, мы должны организовать наши символы таким образом, чтобы из одних и тех же повторяющихся знаков можно было создать неограниченное количество фонетических символов с конкретным значением, которое можно вывести из самих знаков. Это происходит сейчас, как и всегда в подобных случаях. Вспомните алфавит или цифры. Количество букв очень ограничено, количество слов очень велико, существует только десять различных цифр, количество чисел бесконечно. Возможность представлять множество объектов несколькими знаками дается здесь тем, что мы комбинируем эти знаки и выражаем отдельный объект, который должен быть представлен определенной комбинацией определенных знаков. Аналогично и здесь. Мы выражаем индивидуальную сумму ожиданий через комбинацию знаков, которые, в свою очередь, могут повторяться в других комбинациях и служить здесь для построения символа, обозначающего другую сумму ожиданий. Конечно, такая система символов складывается только постепенно; развитие языка ребенка может дать представление о том, как она складывается: ребенок сначала говорит отдельными словами, но эти слова означают то, что взрослый произнес бы в виде предложения, поэтому они также имеют конкретное, узнаваемое значение. Затем те же самые слова неизбежно используются в другом значении, пока к этому значению не добавляется изменяющееся выражение с помощью новых, отличных от других фонетических символов. Однако как только это произошло, слова, которые изначально имели конкретное значение, стали просто строительными блоками для различных языковых символов, наполненных конкретным смыслом.
Конечно, эти отдельные слова также должны иметь значение, которое можно усвоить в определенном смысле. Однако они приобретают это значение не сами по себе, а только благодаря различным языковым целым, в которые они включены как части. Точнее говоря: Мы можем выразить различные ожидаемые суммы только с помощью относительно небольшого числа символов, потому что в них всегда играют роль сходные обстоятельства в сходных контекстах.
Отдельное слово, однако, не просто обозначает такой конкретный факт, а является языковым средством, чья схожая лексика в языковых символах разных смыслов указывает на то, что один и тот же факт принадлежит к составляющим этого смысла.
Язык – это не результат логических рассуждений, а продукт практики, который практика жизни создала для определенной цели. Эта цель в конечном счете состоит в том, чтобы передать от одного человека к другому сходное отношение к будущему и тем самым дать им возможность совместно работать над достижением определенных целей. И язык по своей сути, как мне кажется, выполняет эту задачу в первую очередь.
LITERATUR – Ernst von Aster, Prinzipien der Erkenntnislehre [Versuch einer Neubegr?ndung des Nominalismus] Leipzig 1913.
Генрих Ланц (1838 – 1905)
Проблема репрезентационизма
Глава I. Кантовское учение об объективности
Начиная с Канта, теория объекта в его трансцендентальном освещении становится центральным пунктом философского исследования. Какова природа и сущность объекта, каково основание его объективности, какова сама эта объективность, каково ее отношение к субъекту и, наконец, что есть то, что мы называем субъектом? – Это фундаментальные вопросы трансцендентальной теории объекта. Одним словом, отношение между субъектом и объектом – это фундаментальная проблема критики. Какой природы должна быть объективность, чтобы ее познание было возможным и понятным? – Именно в такой форме ставится вопрос у Канта.
Докантовская философия отвечала на него (если вообще пыталась затронуть его более или менее глубоко) либо в духе теории интенции, рассматривая субъект и объект как две независимые космические потенции, которые связаны и согласованы друг с другом по закону параллелизма или предустановленной гармонии; или, в духе старой немецкой мистики, он отождествлял вещи с субъектом, а субъект с духом, тем самым растворяя всякую объективность и уничтожая ее в акте мистического созерцания. Отношение между субъектом и объектом всегда мыслилось как отношение между духом и вещами, между мыслящей и протяженной субстанцией (res extensa et res cogitans). В этом дуалистическом понимании обоих терминов кроется основная ошибка докантовской философии. Сознание, отделенное от объективного мира, само объективировалось и, будучи объективированным, превращалось в непространственную субстанцию или дух. Там, где сохранялась объективность, сохранялся и принципиальный дуализм, а там, где этот дуализм преодолевался, как у немецких мистиков, а затем у английских идеалистов, исчезала и объективность, знание теряло всякую почву и приводило философию к скептицизму. Эти две фундаментальные ошибки повторялись в каждой философской системе, имевшей хотя бы отдаленное отношение к трансцендентальным тенденциям философии. Однако те системы, которые мы можем считать истоками трансцендентального идеализма, а именно неоплатонический мистицизм и английский идеализм XVII—XVIII веков, – все они возводят эту ошибку в основополагающий принцип своего философствования.
Родоначальник немецкого мистицизма, например, Майстер Экхарт, очень близко подходит к идее трансцендентальной философии со своим принципом равенства сущности между познающим и познаваемым, хотя и только в самой общей и самой дезинтегрированной форме. [27 - Виндельбанд, «История новой философии».]«Ибо сущность постигается только тем, чем она сама является».[28 - Сочинения и проповеди господина Экхарта, перевод Бюттнера, т. I, стр. 85] Сущность всего, однако, есть Божество; следовательно, единственный истинный объект для единственного истинного субъекта – Бога – есть Он Сам в различных проявлениях Своей сущности. Душа человека обладает истинным знанием только в акте мистического откровения, следовательно, лишь в той мере, в какой она несет в себе искры божественного света и совпадает с его сущностью. – «Светом божественной сущности мы должны созерцать божественную сущность».[29 - Мейстер Экхарт, там же, стр. 200] «Когда душа видит себя, она видит Бога». Познавая Бога, а точнее, созерцая его, мы погружаемся в его сущность, теряем всякую индивидуальную объективную детерминацию, превращаемся в абсолютное небытие божественной субстанции, которая (как высшее понятие бытия) лишена всякой детерминации и всякого различия и, как абсолютная пустота чистого сознания, как «несозданное великолепие божественной сущности», есть одновременно все и ничто,[30 - Мейстер Экхарт ibid. стр. 202. Ср. также Н. Cusanus, De docta ignorantia. «Ибо Бог, абсолютное величайшее, не есть это и не другое, он не есть там и не там, но как все, так и ничто из всего». Ср. также «Тождество бытия и небытия» Гегеля, лог. 77 – 108] – вечная «тишина» и полный «покой» самого абстрактного из всех понятий. «В переживании блаженства человек становится ничем, и все сотворенное становится для него ничем». [31 - Мейстер Экхарт там же, стр. 202, ср. стр. 199]– В этом акте мистического созерцания, в переживании высшего блаженства, на которое только способен человек, исчезает всякая объективность, всякая интенция к объекту, исчезает и познание как представление отдельных вещей, и остается только абсолютное тождество[32 - Мейстер Экхарт там же, «Единство», стр. 199 – 200] познающего субъекта с самим собой.
Таким образом, с помощью божественной мудрости мистицизм уничтожает противопоставление субъекта и объекта. Все есть одно и то же, все есть божественность, то есть абсолютное сознание, «несотворенное великолепие божественной сущности». Сущность мира исчерпывается в вечном вневременном акте самосозерцания Бога.
Этого краткого описания философии мастера Экхарта достаточно, чтобы показать, насколько он близок если не к самому Канту, то, по крайней мере, к позднему кантианству Фихте или Шеллинга; это первоисточник немецкого умозрения, если абстрагироваться от его связи с новым платонизмом. Но, несмотря на глубокое родство, она радикально отличается от кантовской и послекантовской философии в вышеупомянутом пункте Она не устанавливает, а уничтожает всякую объективность, превращает ее в дух и, объективируя этот дух в божественную субстанцию, переливает все содержание мира познаваемого в абсолютную пустоту божественного небытия. Единство познающего и познаваемого, которое, по мнению Эккарта, имеет место в самовосприятии и самооткровении Бога, уже не является единством познания, поскольку оно превращается в «неопределенное», «сверхчувственное» видение, в котором уничтожается всякая «активность», всякая детерминированность и отдельность бытия и, в связи с этим, всякая объективность. Высшее познание, говорит Экхарт, – это абсолютное молчание; «душе не дано ни деятельности, ни познания, она больше не знает ни одного образа, ни себя, ни какого-либо существа».[33 - Мейстер Экхарт там же, стр. 34]
Пожалуй, с еще большей ясностью эту связь и отличие от критической философии можно увидеть в системе, из которой немецкий мистицизм сам черпает свои убеждения и которая образует переход от старого к новому периоду философии. Это система нового платонизма. Два основных понятия нового платонизма, en и nous, ставят его в непосредственную связь с новейшей философией. Если понятие Единого предстает как предвосхищение идеи бескачественной и бесконечной субстанции, которая проходит через всю историю философии и даже отражена в концепции Абсолюта Фихте и Шеллинга[34 - Фихте, например, определяет понятие Абсолюта в третьей «Wissenschaftslehre» 1801 года совершенно в смысле Плотина, как нечто стоящее над мышлением и бытием. «Абсолютное не есть ни знание, ни бытие, ни тождество, ни безразличие того и другого, но только и исключительно абсолютное», и аргументация остается той же, что и у Плотина: ни знание, ни бытие не могут быть названы строго абсолютными, поскольку они предполагают друг друга и, таким образом, содержат в себе внутреннее разделение.], то понятие интеллекта, как тождества между мышлением и бытием, образует тот зародыш, из которого при посредничестве спекулятивной философии развились все монистические тенденции современной логики.
Бытие возможно только как бытие мысли. По крайней мере, в сфере умопостигаемого мира идей это предложение представляется Плотину фундаментальной истиной. «Всякая идея не отлична от интеллекта, но всякая идея есть интеллект. А интеллект в своей совокупности есть совокупность идей».[35 - «Эннеады» Плотина, Enn. V. 9, 8] Бытие умопостигаемого мира есть продукт интеллектуальной деятельности, энергии мысли. «Интеллект завершает и свидетельствует о бытии своей деятельностью и мышлением».[36 - Плотин там же, Энн. V 9,8] Как и у Фихте, у Плутина бытие мышления исчерпывается его деятельностью. Продукт мышления по своей сути есть не что иное, как сама деятельность, или «ипостась» [подчинение объективной реальности мысли – wp] в принципе полностью тождественна «энергии» мышления, т.е. они являются лишь двумя моментами одного и того же мышления и различаются только в рефлексии. Объекты мысли не лежат вне самой мысли, а содержатся в ней. Рассудок не стоит напротив интеллигибельного мира как независимое от него существо, которое изображает и отражает отдельную от него реальность, но этот интеллигибельный мир есть сам рассудок, полностью совпадает с ним». Соответственно, нельзя искать умопостигаемое вне интеллекта и предполагать, что в интеллекте есть отпечатки бытия.[37 - Плотин ibid Enn. V 5,2] «Бытие возможно только в истине и через истину и есть не что иное, как сама истина». «Абсолютная истина соглашается не с другим, а с самой собой, и она не говорит ничего, кроме самой себя; она есть; и что она есть, то она и говорит». [38 - Плотин ibid Enn. V 5,2]Ее смысл полностью совпадает с ее объектом.
Это «оно есть то, что оно есть» можно было бы считать крылатым словом современного эпистемологического монизма, если бы в нем не содержался тот элемент мистической метафизики в скрытом виде, который, несмотря на полную идентичность выражений, отделяет плотиновскую доктрину от современной эпистемологии глубокой пропастью. Только более поздний период, через философию Канта, понял, как преодолеть эту метафизику и подняться до концепции эпистемологического субъекта как идеального единства, чистой формы Я-сущности, которая, будучи сама нереальной, делает все реальным. Для Плотина же (как и для докантовской философии) интеллект предстает не только как чистая форма сознания, но и как высший уровень реальности. Для него тождество мышления и бытия синонимично тождеству бытия и мышления. В его философии мышление бытия совпадает с бытием мышления. Не следует забывать, что для Плотина мышление предстает не как абсолютно конечный, эпистемологический prius, а выводится из абсолютного метафизического prius – en, лишенного всех противоположностей; в результате интеллект погружается из ясного царства сознания в темное царство метафизических сущностей. Сознание вновь объективируется и принимается за выражение объективной субстанции; в этом кроется фундаментальная ошибка докантовской философии: она трансцендентна и иллюзорна. Трансцендентна она потому, что ищет в сознании духовную субстанцию объективного мира; иллюзорна – потому, что превращает объективный мир вещей в мир духа (или даже более того, в нечто, превосходящее дух). Идея, составляющая фундаментальную истину и основную предпосылку всей докритической философии, состоит в том, что сознание есть духовная субстанция – непространственная, бесплотная и нематериальная.