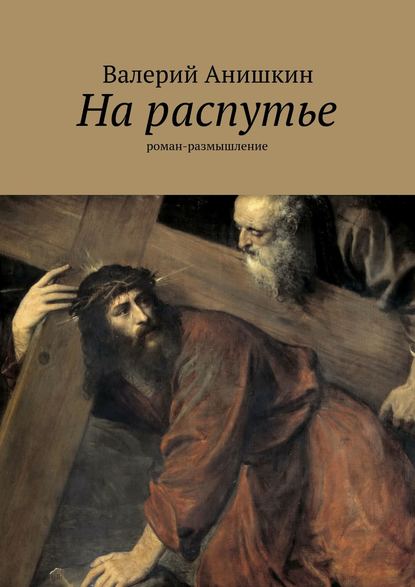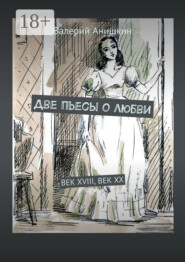По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На распутье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лена выписала два рецепта и оставила на прикроватной тумбочке.
– Как у тебя самой-то дела? – спросила в прихожей Ольга Алексеевна. – С больными трудно, небось?
– Да я привыкла. Конечно, устаю. Полторы ставки, ночные дежурства. А ставка врача, как и учителя… Да сами, тетя Оль, знаете. Особо не разгонишься. Ладно, я побежала. Завтра зайду. Да, тетя Оля, совсем забыла. Моей маме позвоните, она чего-то хотела.
Последние слова донеслись уже из тамбура, когда Ольга Алексеевна закрывала двери.
В том, что они лишились всех своих денег, Виталий Юрьевич винил только себя. Ведь сомневался же он, чувствовал, что здесь попахивает какой-то авантюрой. Да и не в его принципе было пользоваться «халявой», в какой бы упаковке она ни была преподнесена.
Выздоровление сменилось депрессией. Виталий Юрьевич целый день сидел в кресле, тупо уставившись в телевизор, или молча ходил по комнате, сдвинув брови к переносице, отчего походил на ночную птицу филина.
Ольга Алексеевна не выдержала и позвонила Алексею Николаевичу, который должен был вернуться с какой-то конференции из Москвы. Тот пришел вечером с бутылкой водки. Ольга Алексеевна было возразила, но Алексей Николаевич прижал палец к губам и весело подмигнул. Ольга Алексеевна махнула рукой и пошла на кухню за закуской. Она поставила на стол маринованные огурчики, нарезала сальца из морозилки, и оно розоватыми пластиками с темными мясными прожилками аппетитно лежало в тарелке.
– Сейчас разогрею картошку, – сказала Ольга Алексеевна и оставила друзей вдвоем.
– Зря ты раскис, – добродушно сказал Алексей Николаевич, после того как они выпили водки. – Вот этого я от тебя никак не ожидал.
– Ничего себе, зря. Почти два миллиона псу под хвост. Можно сказать подарил. Только кому – не знаю.
– Нехорошо, обидно! Но не смертельно. У моей Верки тоже миллион накрылся, – беззаботно засмеялся Алексей Николаевич.
– Ты же говорил, пятьсот тысяч, – напомнил Виталий Юрьевич.
– А проценты? С процентами уже около миллиона набежало. Так Верка моя уже их мысленно своими кровными считала. Я говорю, снимай, Вер, снимай, пока не поздно. Нет, говорит, еще месяц подожду. Вот и дождалась.
– Алеш, но ведь кто знал, что вот так вдруг. Такие деньги! – Ольга Алексеевна молитвенно сложила руки на груди.
– Вот-вот. Жадность нас и подводит. Ну, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут.
– Factum est factum, – вяло произнес Виталий Юрьевич.
– Во-во. Что сделано, то сделано. Пусть тебя утешит то, что ты не один такой. Знаешь, сколько людей последнее потеряли? У нас в институте лаборантка трехкомнатную квартиру обменяла на однокомнатную, а разницу вложила в МММ, хотела дочери с зятем отдельную квартиру и машину купить. Теперь молодые живут у его родителей в двухкомнатной квартире, а лаборантка наша в психушку попала. Вот это трагедия. А у тебя так – неприятность. Уж если Бог не дал счастья быть полным дураком, то приходится крутиться, терять и начинать все сначала… И побрейся, смотреть тошно.
– Говорят, сейчас небольшая небритость в моде, – пошутил Виталий Юрьевич.
– Ага, если ты молодой миллионер, а на тебе безукоризненный фрак, а не кроссовки и мятый пиджак.
Глава 8
Виталий Юрьевич написал свои пять страниц рукописного текста, откинулся на спинку кресла и потянулся, расслабляя затекшие члены, потом встал, включил телевизор и с отрешенным видом смотрел на экран, все еще оставаясь во власти той реальности, в которой жили герои его романа. На экране извивались в танце полуобнаженные юные дивы, а юноша с множеством тонких косичек с вплетенными в них разноцветными лентами, долбил что-то монотонным речитативом, приплясывая, жестикулируя и все время тыча указательным пальцем прямо в него, Виталия Юрьевича. И также безразлично он смотрел на Шуфутинского, который пел «Душа болит, а сердце плачет», а позади него плавно поворачивались то в одну, то в другую сторону и синхронно работали руками три одинаковые как близнецы барышни – бэк-вокал… Иногда Виталий Юрьевич чувствовал себя каким-то посторонним в этом мире, и тогда на все смотрел как бы из другого измерения. И тогда ему странно было видеть, как человек кривляется на сцене, изображая что-то, что Виталию Юрьевичу казалось совершенно бессмысленным, и он не понимал, зачем это? Вот пение. Человек ведь, по существу, орет, только старается делать это красиво. В Брянских деревнях до сих пор говорят не «спеть», а «скричать»: «Мань, давай скричим песню». Однажды Виталий Юрьевич на каком-то гастрольном концерте, с коими в их город зачастили алчущие звезды, и куда его затащила Ольга Алексеевна, едва сдержался, чтобы не расхохотаться, и Ольга Алексеевна даже больно толкнула его в бок, а он подумал, не спятил ли он уже с ума. Но нет, все его поведение оставалось разумным, и искусство, которое он считал настоящим, он воспринимал адекватно. Просто ему казалось, что эта оголтелая свора, которая вдруг вылезла на телеэкраны, – побирушки, только подают им несоизмеримо больше, чем на паперти. Это был бизнес, шоу-бизнес.
Когда-то театр и эстрада были чем-то прикладным, второстепенным. До 1861 года на подмостки сцены вообще выходили в основном крепостные, да и после актерство считалось занятием низким. И в советское время профессия артиста была хотя и уважаемой, но малооплачиваемой, приравниваемой к забитой категории бухгалтеров. Известно письмо руководства МХАТа к Сталину, где оно жаловались на низкие ставки артистов. Актеры получали семьсот дореформенных рублей, заслуженные – тысячу двести, и только титаны сцены типа Станиславского или Немировича-Данченко – по две тысячи рублей[7 - После денежной реформы 1961 г. – соответственно, семьдесят, сто двадцать и двести рублей.]. С другой стороны, для государства – это надстройка: артисты ничего не производят и служат для увеселения деловой части населения. В новое время быть артистом стало престижно, и денежно. Молодежь напропалую двинула в шоу-бизнес. Совершенная звукозаписывающая техника позволила компенсировать отсутствие голоса и таланта. Сбитый с толку народ вместо «Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем», вдруг запел «Муси-пуси, я боюси» и «Я твой тазик». Благо, цензура была упразднена. Пошлость, словно дикорастущий плющ, опутала культуру и быт. Менее развлекательные программы были задвинуты на ночное время, и молодые, агрессивные теледеятели стали играть на низменных чувствах людей, пробуждая в них звериную жестокость, убивая жалость и сострадание, и подменяя истинное, то, что в человеке издревле считалось ценным, суррогатом зэковских понятий, компенсируя свой дьявольский труд миллионами за рекламу, которая стала неотъемлемой частью всего телевидения и составила существенную его часть. Блатная субкультура становилась культурой. И самое печальное в том, что все это проповедует интеллигенция, получившая свободу, и предавшая свой народ.
Есть такая категория людей, которая не привыкла думать и не хочет думать, но хочет жрать, и жрать хорошо. Этим людям не знакомо понятие чести, они не имеют совести, для них чужое как свое, они не знают чувства сострадания, они могут изнасиловать, избить женщину, походя оскорбить, нахамить, они плюют на закон, не утруждая себя пониманием того, что, пренебрегая законом, они ввергают страну в хаос. Кто-то назвал их «быдлом», а кто-то оскорбился, считая, что выражение это больше подходит для скота, но все мы – часть животного мира, и если кто-то из нас стоит на таком примитивном уровне, то и понятие «быдло» для нас в самый раз… Это «быдло обывательское». А есть еще «быдло гламурное», которое не лучше обывательского и отличается от него только тем, что оно состоятельное, но от него больше зла, потому что оно публично и имеет доступ к массовой публике через телевидение…
Литературный язык, язык Тургенева и Чехова, стал мешать. Дума заговорила на «фене». Академик Лихачев, один из последних столпов культуры и русского литературного языка, образец ученого и гражданина, пример для Виталия Юрьевича, молчал…
– Виталий, – прервала раздумья Виталия Юрьевича голос жены. – К тебе Алексей Николаевич.
– Зови! – Виталий Юрьевич без сожаления нажал на кнопку пульта и выключил телевизор, где шел концерт в честь Дня независимости России.
– Привет, Леш, садись! – мрачно сказал Виталий Юрьевич, пожимая руку другу.
– Так я и принес, – весело откликнулся Алексей Николаевич, ставя на журнальный столик бутылку «Экстры».
– Ну зачем? – сморщился Виталий Юрьевич. – Что, у меня бутылки водки не найдется?
– Ничего, твою в следующий раз выпьем, – заверил Алексей Николаевич. – А ты чего такой кислый сидишь?
– Да так. Вот академика Лихачева вспомнил. Сделал для России больше всего депутатского корпуса вместе взятого, заслужил вечную память всех культурных русских, хранитель и бессменный директор «Эрмитажа» оказался ненужным… Ты знаешь, сколько Лихачев получает? Шестьдесят пять долларов.
В голосе Виталия Юрьевича была и ирония, и горечь.
– Твои сведения немного устарели, – возразил Алексей Николаевич. – Теперь Российский академик имеет пенсион в 300 долларов. Для Европы – это, конечно, ничего, а для нас, на фоне общей нищеты это вполне осязаемо.
В зал вошла Ольга Алексеевна и поставила на журнальный столик рюмки, тарелку с маринованными огурцами, целую разогретую картошку и немного нарезанной дольками колбасы.
– Больше ничего, что-ли, нет? – недовольно сказал Виталий Юрьевич.
– Могу кильку дать, – усмехнулась Ольга Алексеевна.
– Только не кильку, – наотрез отказался Алексей Николаевич. – Он ее есть не умеет. Отрезает хвосты, потом голову, потом начинает чистить внутренности, да еще пытается счистить чешую, которой нет. Без слез смотреть на это невозможно. У нас в институте тоже одна преподавательница за обедом берет хлеб двумя пальцами и объедает его вокруг, оставляя ту часть, которую держала, потому что боится микробов.
– Совершенно разные вещи, – обиделся Виталий Юрьевич.
– Но из того же ряда, – засмеялся Алексей Николаевич.
– Ну, тогда хватит с вас! – не обращая внимания на мужа, сказала Ольга Алексеевна. – Вечером Мила придет, тогда и поешь.
– Алексей, а что Вера? – повернулась к Алексею Николаевичу Ольга Алексеевна. – Пришли бы вместе, посидели. Что вам, мужикам, за удовольствие? Сели вдвоем, выпили и пошли мировые проблемы решать.
– Так приходите к нам вечером. Вера, кстати, привет передавала и звала.
Нет, Алеш, спасибо за приглашение. Вечером Мила заскочить обещала. С ней, да с внучкой побудем.
Таисия Ивановна ушла на кухню. Виталий Юрьевич разлил водку по рюмкам. Мужчины выпили и молча захрустели маринованными огурцами.
– Так вот, про академиков, – заговорил Алексей Николаевич. – Недавно Академия наук избирала новых членкоров и академиков. Это мне рассказывал один мой бывший докторант из Москвы. Избрание носило в этот раз крайне нервный характер. Вот как раз в связи с тем, что по новому указу академик будет получать теперь 300 долларов. С одной стороны, и лицо нужно сохранить, и мимо денег не пролететь. Конечно, не всем удавалось спрятать эмоции… Говорят, за некоторых было стыдно.
– Ну, слава Богу, хоть академикам что-то подкинули. – Виталий Юрьевич скривил губы в иронической усмешке. – Теперь бы еще народных артистов вспомнить.… Как-то показали квартиру Юматова. Убогость. Беднее некуда. А просить – гордость не позволяет. Где-то я прочитал, что Николай Гриценко из Вахтанговского в больнице таскал из холодильника чужую еду. Хотя, правда, был он уже в преклонном возрасте и никого не узнавал.
– А на всех пирог не испечешь. Из каких шишей давать, если годовой бюджет России меньше годового бюджета одного Нью-Йорка, – резонно возразил Алексей Николаевич. – А что ты за артистов так ратуешь? Ты же вроде их не очень жалуешь.
– Отнюдь, – возразил Виталий Юрьевич. – Это я халтуру не жалую… Мы с тобой – рядовые граждане или, как нас теперь придумала называть власть, – электорат, а я говорю о людях, которые являются цветом нации, авангардом интеллигенции.
– Ну, допустим, и это не секрет, что интеллигенцию в России никогда не любили, а при советской власти особенно. Ленин, если ты помнишь, называл интеллигенцию «говном».
– Это он называл так интеллигенцию как прослойку, то есть абстрактную массу, за конформизм. Сам-то он был, несомненно, интеллигентом, как и многие из его окружения.