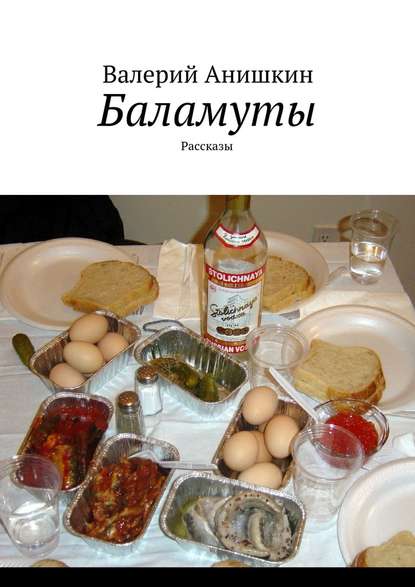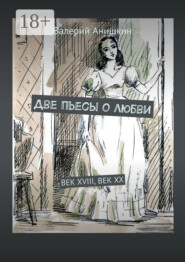По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Баламуты. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как так?
– А так, что там ненужная стала. Мешаюсь я там.
– Ну, гад ползучий! Ну, жлоб … – Катерина захлебнулась от возмущения. – А все Зинка, паразитка. Ее это дело.
– Мам, ты что, лежала, что-ли, на диване-то? – бросив взгляд на сбитое покрывало, обиженно сказала Катерина. – Хоть покрывало-то сняла бы.
Василина неловко сползла с насиженного места и устроилась на стуле. Катерина свернула и убрала покрывало в нижний ящик шифоньера.
Сожитель пришел к ночи, когда Василина уже устроилась спать – Катерина постелила ей на диване, – и все вздыхала и ворочалась, приспосабливая свои кости к новому месту. Он, по всему видно, был на сильном веселе, потому что фордыбачился, пытался петь, и на кухне что-то гремело и падало, а Катька все уговаривала его и о чем-то просила. Потом Катерина вела его мимо Василины, придерживая за бок, а он старался идти на цыпочках, приложив палец к губам, будто приказывал себе не шуметь.
В Катькином углу какое-то время слышалась возня, предостерегающий Катькин шепот, и даже отпечатался звонкий шлепок по голому телу; потом все стихло, и Василина услышала мерный храп.
«Тоже Бог счастья не дал, – подумала Василина. – Свой был мужик беспутный. Так от водки и сгорел. И это не мужик. А с другой стороны, как одной? Плохо без мужика-то в доме. Это она по себе знает. Тимофей умер, когда ей, слава Богу, за семьдесят уже было. А как тяжело без него приходилось. А Тимофею жить бы да жить. Все война, будь она проклята. В ключах сколько с коровой простаивал, от немцев прятал!.. От этого и помер».
Василина вздохнула, жалея дочку.
К вечеру, к Катиному приходу, она наварила картошек и радовалась, что смогла хоть чем-то помочь дочери.
Ужинать сели вместе. Катерина достала огурцы и разогрела картошку.
За столом Катерина все больше молчала и украдкой поглядывала на мать, словно что-то хотела сказать и не решалась.
– Мам, – сказала она наконец, когда поели, и Катерина стала собирать со стола посуду. – Что, если я тебя отвезу к Тоньке? И не ожидая ответа, заговорила торопливо, объясняя, почему так нужно:
– На время, пока Лешку уговорю. Боится он тебя. Не хочу, говорит, с матерью. А то, говорит, решай сама, как знаешь.
Катерина посмотрела на мать. Та молчала, лицо ее оставалась спокойным, и в глазах не было осуждения, но Катерине стало не по себе.
– Уйдет ведь, – еле слышно сказала она, и в голосе ее была боль и растерянность.
У Василины сердце сжалось от жалости, и она, как умела, успокоила:
– Неруш, дочка! Э-э! Мне хоть тут, хоть там – все одно. Лишь бы крыша над головой, – соврала она. – А ему, оно, конечно. На любого доведись, ну-ка попробуй…
К Антонине ехали на автобусе. На поворотах Василину заводило в стороны, и она моталась на заднем сидении, заваливаясь то на один бок, то на другой. Узелок мешал ей держаться, но она не выпускала его и крепче прижимала к коленкам.
Встретили ее хорошо. Усадили за стол, и зять Федор даже достал бутылку белого, которую почти один и выпил. В разговоре стали ругать Николая за мать.
– Это все Зинка, подлюка. Она им, дураком, как хочет, крутит, а он только бельмами ворочает, как баран дурной, – высказалась Антонина и свирепо глянула на Федора, который все подливал себе в рюмку.
– Этому лишь бы выжрать, – осадила она его мимоходом, скорее, по привычке, чем по необходимости, и продолжила разговор с Катериной:
– Я ему, дундуку, покажу. Барин какой. И эта утка раскоряченная. Ну как ты думаешь? – раздраженно вдруг заговорила Антонина, обращаясь к Катерине.– У меня две девки. Опять же, Верка, племянница Федькина, у нас живет. Ни кола, ни двора. Замуж собирается, а где жить будут, еще неизвестно. И куда я матку? – спросила она Катерину в упор. – Нет уж. Он, паразит, квартиру получил вместе с маткой. Погостить, пожалуйста!.. Мам, ты побудь денька два, я разве против? – живо повернулась она к Василине. – А завтра я к этим схожу.
И замолчала. Федька тяжело встал из-за стола и под ненавидящим взглядом Антонины, слегка пошатываясь, пошел в свою комнату.
– Господи, вот свинья-то, – не удержавшись, бросила она зло в спину мужу, но тот даже не огрызнулся.
Василина прихлебывала чай из большой фаянсовой кружки, который пила по давней привычке вприкуску, макая сахар в чай. Она молча слушала, о чем говорила Антонина, и время от времени кивала головой, соглашаясь со всем, что та говорила.
Уложили Василину в зале на диван. Василина долго ворочалась и охала, пока нашла удобное положение, при котором боль в суставах не так беспокоила.
Уже засыпая, она вспомнила младшую сестру Дарью и пожалела ее. Все сыновья ее сложили головы, четыре сына, кровь и плоть ее, на этой войне. От слез ослепла Дарья. А живет еще. «Лет девяносто есть», – прикинула Василина. Недавно зять, Федор, Тонькин муж, в Галеевке был, весточку привез. «Ох-хо-хо, – подумала вдруг Василина, – долго живем, лишнее уже. И ноги не ходят, и руки не держат». И вспомнила, как вчера утром из рук у нее выскользнул стакан и разбился. Невестке она про стакан ничего не сказала, а собрала осколки и выбросила в мусор, затолкав поглубже.
– Теперь уж скоро Господь приберет. И меня, и Дарью, – успокоила себя Василина и, закрыв глаза, задремала.
Утром Василина собрала свой узел, взяла клюку, без которой на улицу не выходила, и пешком отправилась к самому жалкому своему сыну, Егору. Этот не прогонит. Сам хворый, потому и понимает лучше других, что такое немощь. И душа у него Богу открыта, хоть и партейный.
У Егора Василина прожила недолго, хотя ей было там покойно. Невестка Клавдия к ней отнеслась по-доброму и не притесняла, но Егор часто болел, и Василина видела, что она живет здесь обузой.
Она упросила Николая взять ее назад, а когда Катеринин сожитель в очередной раз от нее ушел, ее опять отвезли к Катерине.
Она плохо видела, из дома не выходила и все больше неподвижно сидела на диване, на котором и спала. Катерина, уходя на работу, закрывала ее на замок, и Антонина, изредка наведываясь, чтобы справиться о ее здоровье, разговаривала с ней через дверь. Она жалела мать, но понимала и Катерину. Василине было за девяносто, и была она немощна, а поэтому неловка, часто била посуду, не всегда успевала дойти до туалета и оставляла за собой следы на полу. В комнате стоял нежилой дух, который никогда не выветривался. Свои притерпелись, а свежий человек с улицы долго в квартире не задерживался и под всяким предлогом спешил уйти. Василина и сама была себе не рада, видела, что зажилась, просила у Бога смерти, вся высохла и неизвестно, в чем душа держалась, а жила и жила. Без пользы, без толку…
Померла Василина днем. И померла как-то буднично. Утром встала, выпила с дочкой Катериной чаю. Посидела, по обыкновению, на диване. Потом легла и затихла. Катерина даже не заметила, когда Василина померла. Позвала: «Мамк, что будешь обедать?» Не получив ответа, через некоторое время подошла разбудить, а мать холодная. Катерина зажала ладонью рот и тихо охнула: «Ой, да что же это!» и вдруг заскулила по—собачьи, запричитала и вместо своих обид на мать почувствовала внезапный стыд от того, что сама обижала ее окриком, напрасной придиркой или выговором за пустяк. Уже и самой Катерине было за пятьдесят, и мыслью она свыклась, примирилась со скорой материной кончиной и, чего скрывать, в сердцах грешила иной раз в мыслях, желая скорой смерти Василины, – грелась, змеюкой свернувшись в душе, такая надежда, – а теперь горе было неподдельное, и сердце разрывалось от безысходной тоски. И Катерина впадала в полуобморочное состояние и плохо соображала, не зная, куда бежать и что делать дальше.
Обмывали и прибирали покойную старухи-соседки. У Василины лет пятнадцать как все было на смерть собрано, и она при жизни любила перебирать и перекладывать единственное свое богатство: новое сатиновое платье, полотняную нижнюю рубаху, ситцевый платок, тюль, туфли, наволочку, ленту для рук и ног, чтобы не расходились – все новое, ни разу не надеванное.
Теперь Василина тихо лежала в тюлевом гнезде, прямая и торжественная. На лице застыло безмятежное спокойствие, и проваленный рот тронуло подобие улыбки, будто она, освободившись от мирской суеты, достигла, наконец, желаемого счастья. Глаза впали, и затененные глазницы казались неестественно глубокими, заострившийся нос смотрел в потолок, а кости обтянутых пергаментной кожей рук лежали, сложенные на груди, и, выполняя последний работу, держали зажженную тонкую свечу, которая сливалась с руками и, казалось, была восковым их продолжением.
– Деньги на похороны собирали по частям. Сотню заняла Катерина, семьдесят рублей дала Антонина, сто дал Егор.
Сын, Николай, снял с книжки двести пятьдесят рублей, но был недоволен, ходил хмурый, молча сопел, гася раздражение, и все же не вытерпел и выговорил сестрам, упрекнул за то, что дали мало денег, а дома выплеснул обиду, жалуясь жене:
– Чурки чертовы! Когда ни коснись – все денег нет. А на водку мужикам находят. Федька, тот вообще спился.
– Да почти каждый день захлестывает, – поддакнула жена.
– Ну ладно Катерина, та с мужиком не расписана. Лешка хочет-придет, хочет-уйдет. Считай, что одна. Эту жалко. А эта. Даром, что сестры. … Николай устрой, Николай дай. Что я, обязан, что ли?
Антонину попреки брата задели за живое. Она пошла красными пятнами и злобно зашипела на Николая:
– Где я возьму? У меня три девки. И жрать, и одевать надо! Что мне, с неба рубли валятся? Сколько могла, столько и дала.
А Катерине сказала:
– Ничего не сделается. Пусть мошной потрясет. Как сыр в масле катается. Сам по триста рублей получает, и Зинка в магазине работает.
Антонина промокала глаза платком. А Катерине при мертвой матери разговор был неприятен, и она отмолчалась.
Николаю пришлось помотаться. Он заказывал гроб, торговался с могильщиками, ездил в магазин ритуальных услуг за венками, закупал водку и продукты. Его старшинство безоговорочно признавалось родственниками, он покрикивал на сестер, готовивших поминальный ужин, распоряжался, с ним советовались по разным вопросам, связанным с похоронами и столом.
С кладбищем чуть было не вышла промашка. Хотели похоронить, как просила Василина, рядом с мужем Тимофеем на Крестительском кладбище. Но родственникам сразу отказали по той причине, что кладбище переполнено, а на памятнике мужу стерта надпись. Николай заметался. Бросился туда, сюда. В нотариальной конторе даже попытался делопроизводительнице сунуть четвертной, но та, скосив глаза на сослуживицу за соседним столом, вдруг заорала ненормальным голосом:
– Как вы смеете? Да за это знаете что? … Уберите немедленно.
И, упиваясь своей честностью, вдруг надулась индюшкой и завертела головой во все стороны, словно проверяя реакцию на свой героический поступок, хотя в комнате, кроме одной сослуживицы, больше никого не было.