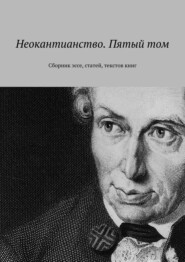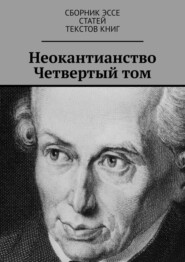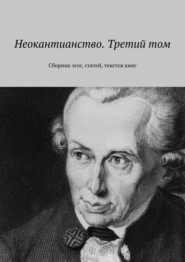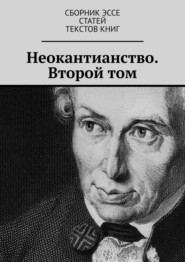По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неокантианство. Первый том. Вторая часть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Такое мировоззрение может иметь большую ценность для естественных наук, но как метафизика оно совершенно бессмысленно, если его истинность опровергнута в той же книге. Это была бы метафизика, которая нуждалась бы в более высокой, (однако неосуществимой) сверхметафизике, чтобы дополнить ее. Таким образом, в своей последней философской точке зрения ЛИБМАНН столь же непоследователен в прямо противоположном направлении, как и в своей первой точке зрения. Если пространство, время и категории действительно являются субъективными интеллектуальными функциями, то реальное, которое не зависит от них, о котором мы не можем подозревать, соответствует ли оно этим или другим законам, или вообще никаким законам, совершенно непостижимо, то метафизика действительно совершенно невозможна.
Если ЛИБМАНН так отчаянно сопротивляется этому последствию, то это потому, что, как и КАНТ, он не только признавал неизбежность метафизики, но и ее незаменимость. В трогательной манере ЛИБМАНН описывает человеческую потребность в решении проблемы «ты» и проблемы реальности в целом, и он убедительно критикует радикальный эмпиризм, который не хочет выходить за пределы того, что непосредственно дано в опыте, показывая, какие предпосылки за пределами реального опыта должна сделать каждая эмпирическая наука (25). И все же, для ЛИБМАННА всякая наука, выходящая за пределы опыта, невозможна, поскольку опыт должен подчиняться только категориям.
И зачем все это? Единственное, что действительно бесспорно из всех аргументов «Новых кантианцев» – это только утверждение, что мы можем воспринимать возможно существующие объекты только через посредство нашей чувственности и нашего интеллекта. Другими словами, что природа мировоззрения зависит и от природы субъекта. Но это может признать даже самый радикальный реалист и самый упорный метафизик. Важно то, что критика должна начаться с КАНТА, как и со всех неокантианцев, – это вопрос о том, насколько далеко простирается это влияние субъекта. КАНТ, ЛИБМАНН и другие неокантианцы видят в качестве ощущений, в форме представлений и в регулярности отношений акт субъекта. То есть они берут всю картину мира в целом как субъективно обусловленную и фактически переносят в объект (как таковой) только импульс, только причину этой картины мира, без того, чтобы природа этой причины где-либо проявлялась в следствии; ведь если из нашего мира убрать не только качество ощущений, но и их (пространственное, временное и законное) расположение как субъективное, то ничего не останется. Очевидно, однако, что в картине мира, возникающей из отношения объекта и субъекта, необходимо было бы найти и влияние объекта. В этом направлении существовала возможность выхода за пределы Канта. Такой выход должен был состоять в том, чтобы отвоевывать твердую почву, кусочек за кусочком, у всепоглощающего потока кантианства. Это должно было бы быть продвижение реализма против идеализма. Новое кантианство не движется в этом направлении. Но другой мыслитель, как мне кажется, действительно преодолел Канта в этом смысле.
В «Естественно-научном монизме» моего отца, доктора МАКСИМИЛИАНА Л. ШТЕРНА, показано, что по крайней мере отношения в эмпирическом мире принадлежат объективной составляющей мира (если не принимать во внимание солипсизм как маловероятную возможность). Там же показано, что наш субъект (разум) лишь придает природе качественную конституцию, но не предписывает законы, а черпает их из нее.
Не только неокантианство, но и многие другие современные направления философии выступают против метафизики, не принимая во внимание, что тем самым они лишают философию всякого оправдания, чтобы позволить ей просто слиться с естествознанием или, как ЭРНСТ ЛААС, возложить на нее только эпистемологию, то есть задачу постоянно доказывать собственную ничтожность. Именно ради метафизики философия необходима, в отличие от других наук и в некоторых отношениях дополняя их, но не объединяя и не обобщая их, как считает КОМТЕ. Об этом могут позаботиться только науки. Но они не могут остановиться на обосновании и анализе метафизических предпосылок, что приходится делать почти всем наукам. Только по этой причине метафизическая философия необходима, совершенно помимо элементарной человеческой потребности в ней, которую она всегда будет порождать. Так, например, физик не может остановиться на исследовании того, существуют ли время и пространство сами по себе и какова их сущность; он должен предположить их существование. Психология не должна поддаваться влиянию вопроса о том, существует или не существует душа. Этика ни к чему бы не пришла, если бы ей пришлось сначала доказывать существование Ты, которое она должна предполагать. Почти все науки, наконец, должны предполагать реальность мира и т. д. Отсюда вытекает необходимость науки, занимающейся такими вопросами, на которую другие науки могут переложить все эти трудные проблемы. Если философия уклоняется от этой задачи, то другие науки будут заниматься этими проблемами в ущерб себе. Конечно, можно возразить, что философия занималась такими вопросами, но ей было бы доказано, что дальше по этому пути она не пойдет. Что ж, тогда эти доказательства нужно сначала подвергнуть исследованию. Кстати, не существует доказательств, которые действительно могли бы полностью исключить возможность метафизики. Что, если выбрать конкретную проблему, можно было бы показать в худшем случае, так это, например, то, что реальность внешнего мира не может быть доказана. Но это вовсе не обязательно. Достаточно иметь метафизику, которая покажет мне, какие причины говорят за, а какие против этой реальности, и насколько велика их вероятность. Более важным, чем вопрос о том, можно ли доказать существование внешнего мира, является вопрос о том, можем ли мы знать что-либо об этом мире, если он существует. С точки зрения кантианства, это совершенно исключено. Но мне кажется, что такая возможность существует. Даже если мы, возможно, никогда не сможем постичь сущность этого мира, это не обязательно исключит всякое знание о нем или относительно него. В конце концов, человеческая мысль способна (или считает, что способна) по сохранившейся кости определить внешний вид, образ жизни и возраст давно умершего животного. Неужели так уж невозможно вывести причину в какой-то степени из следствия самого мира (мировоззрения), каким мы его знаем? Как наука, фактически не может существовать только трансцендентная метафизика, которая хочет сформировать понятия, для постижения которых опыт не предлагает никаких средств. Метафизика (наука об истинном бытии, которое лежит в основе видимости) вовсе не обязана быть трансцендентной; она может, исходя из опыта, познать столько истинного бытия, сколько раскрывается в видимости. Метафизика тоже может стать наукой опыта и даже должна стать ею. Начиная с данности, она должна заключать настолько, насколько можно заключить из этой исходной посылки. Она необязательно должна ограничиваться реальным опытом, но основой ее исследования может быть только реальный опыт, т.е. она должна ограничиваться реальным опытом и тем, что вытекает из реального опыта, тем, что выводится, даже если вывод делается только гипотетически. МАХ сказал бы, что эта гипотеза является лишь принципом мышления для характеристики определенных закономерностей опыта. Он не замечает, что эти гипотезы не только характеризуют закономерности, но и объясняют их. И почему бы нам не верить в определенной степени в гипотезы, на основании которых мы предсказываем то, что потом действительно сбывается, и принятие которых объясняет нам многое, что иначе осталось бы необъяснимым.
Таким образом, возможно, будущее философии покоится на эмпирической метафизике, которая ограничивается исследованием того, как много самого мира находится в нашем мире, может быть выведено из него или даже только предположено, на позитивной метафизике, которая пытается распознать то, что действительно существует только в той степени, в которой оно содержится в опыте.
Примечания
1) Отто Либманн, Кант и эпигоны, стр. 20—25.
2) указ. соч. стр. 28, 29
3) Указ. соч. стр. 39
4) ?ber den objektiven Anblick, op. cit., page 153. «Это отношение между неизвестным (Y) и другим, столь же неизвестным (X), последнее представляется нам как наше тело, из которого в действительности возникают в нашем сознании те разумные качества, которые наше понимание, согласно законам, данным априори, преобразует в воспринимаемую природу, явление материального внешнего мира». Еще яснее в «Анализе действительности», второе издание, стр. 196: «Кто разделяет с нами убеждение, что действительность есть нечто большее, чем простое воображение, что абсолютный реальный мир, лежащий за субъективными пределами сознания и познания (mundus intelligibilis), лежит в основе явлений эмпирического мира (mundus sensibilis)…» (Далее, указ. соч. стр. 140, 147, 159, 167; Analysis der Wirklichkeit, 2-е изд. Стр. 272 и во многих других местах, особенно в «Gedanken und Tatsachen», II. Folge.
5) Так, Лаас, «Позитивизм и идеализм», с. 34, 45—48, 687 и совершенно ясно с. 689: «Первое (мнение) состоит в том, что вещь-в-себе, абсолют и т. д. непознаваема, но в любом случае она есть; это то, от чего мы чувствуем себя определенными, зависимыми в наших восприятиях. Этот взгляд безвреден, поскольку в принципе позволяет не тратить время на круговерть научных операций в потустороннем мире. Но какая польза от этого предполагается, и что с научной точки зрения делает это необходимым, тоже нельзя предположить». Фридрих Альберт Ланге, История материализма, 6-е издание, т. 2, с. 49/50. Эрнст Мах (Анализ ощущений, Введение, с. 5: «Так естественным образом возникает философская мысль о вещи-в-себе (отличной от своей видимости, непознаваемой), которая сначала была навязчивой, но затем была признана чудовищной». Там же: «… в конце концов человек привыкает рассматривать все свойства тел как эффекты, которые мы называем ощущениями и которые исходят из постоянных ядер и передаются эго через посредничество тела. … Но тогда мы знаем только об ощущениях, и предположение об этих ядрах, а также о взаимодействии между ними, из которого сначала возникли бы эти ощущения, оказывается совершенно праздным и излишним». Курд Лассвиц, Доктрина Канта об идеальности пространства и времени,
стр. 44: «У нас нет причин предполагать неадекватную реальность вне нас». Richard Avenarius, Philosophie als Denken der Welt gem?? dem Prinzip des kleinsten Kraftma?es, Leipzig 1876, page 30, 55f, 59. Der menschliche Weltbegriff, Leipzig 1891, page 114, page 130 и совершенно недвусмысленно page 131: «Мыслить составляющую среды (объект, вещь) „в себе и для себя“, следовательно, пытаться мыслить то, что вообще не может быть мыслимо, но также не может быть выведено; и хотеть определить составляющую среды (объект, вещь) „в себе и для себя“ положительным или даже только отрицательным образом с точки зрения ее природы, значит пытаться определить нечто немыслимое посредством мыслимых вещей. Поскольку никакой анализ опыта и никакие выводы из опыта не приводят к таким заблуждениям, то и вопрос может возникнуть только на почве (невольной) фальсификации опыта или ложного вывода».
6) Спиноза, Этика I, L. 8, E. 2.
7) Liebmann, Kant und die Epigonen, page 37.
8) Из бесчисленных отрывков Либманна, в которых выражены эти мысли, мы остановимся лишь на некоторых; остальные являются почти дословными повторениями слов. Стр. 153: «…из которых в действительности возникают в нашем сознании те разумные качества, которые наш интеллект, согласно законам, данным априори, преобразует в воспринимаемую природу, феномен материального внешнего мира». Анализ реальности, 2-е издание, стр. 233: «Таким образом, все познания вообще предполагают определенные чистые формы познания a priori, в которые должен вписываться материал, данный a posteriori, чтобы вообще стать для нас воспринимаемым объектом; точно так же, как в эмпирической области свет, исходящий от видимых объектов, должен вписываться в законы преломления в глазу видящего, чтобы вообще стать видимым для него». Совершенно аналогично, стр. 255. стр. 238: «В этом я нахожу глубочайшее истинное содержание критики разума, что человеческий интеллект не черпает законы из природы, а предписывает их ей. С этим утверждением нельзя не согласиться». F. A. Lange, Geschichte des Materialismus, 6th edition, vol. 2, page 49f: «…он показывает нам, что весь наш внешний мир зависит от наших органов, и Канту принадлежит та заслуга, что он показал, что наши категории играют в этом такую же роль, как и наши органы чувств. Если всеобъемлющее рассмотрение мира видимостей приводит нас теперь к выводу, что и он обусловлен в своей связи нашей организацией…". Герман Коэн, Теория опыта Канта, Берлин 1871. стр. 101: «Поэтому мы не утверждаем априорности категорий, как и категории… ибо является ли общность необходимой формой мышления, необходимой для возможности опыта, или только причинность или также связь цели – об этом существует спор.» Стр. 135: «Таким образом, не может звучать противоречиво и отчужденно, когда трансцендентальная дедукция приводит к предложению: Природа, воплощение видимости, направлена в соответствии с нашим субъективным основанием апперцепции. Само понимание является источником законов природы, формального единства природы». Из многих других неокантианских мыслителей следует упомянуть Иоганна Фолькельта, потому что в его работах упомянутые здесь предложения подразумеваются в гораздо более далеко идущих мыслях, но их нелегко обнаружить. Следует сравнить с отрывками из его работы «Теория познания Иммануила Канта», страницы 160—167, 206, 209 и другие, например, страница 220: «В обоих случаях убедительный момент заключается в понимании того, что необходимость или законность везде является достижением мыслительного самосознания». Страница 1: «В начале философствования мы с безусловной уверенностью знаем только одно, что весь окружающий нас богатый красочный мир есть содержание пережитого нами воображения». Или также стр. 253. Только в этом случае процитированные выше отрывки становятся доказательством моего утверждения.
9) Йоханнес фон Кирхманн, «Исследование Юма о человеческом разуме», Философская библиотека, том XIII, стр. 40.
10) Указ. соч. стр. 35.
11) Liebmann, Epigonen, стр. 104f.
12) Liebmann, Epigonen, pp. 112f.
13) там же, стр. 109, 111. Анализ реальности, стр. 36f, 87f. Мысли и факты I, стр. 346, 374.
14) Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik, §26, стр. 453f.
15) Liebmann, Epigones, pp. 113, 114.
16) Ср. F. A. Lange, Geschichte des Materialismus, шестое издание, том 2, стр. 5f.
17) Liebmann, Epigonen, стр. 159; Analysis der Wirklichkeit, 2-е издание, стр. 83, 99, 178 и чаще; Gedanken und Tatsachen, т. 1, стр. 34—38, 140, 229, 346f.
18) Анализ реальности, стр. 187f; Мысли и факты I, стр. 153.
19) Liebmann, Epigones, pp. 159—161.
20) Liebmann, Klimax der Theorien, pp. 77—93 и во многих других местах.
21) Там же, стр. 85.
22) Gedanken und Tatsachen, т. 2, второй выпуск (1901), 5-й раздел.
23) Там же, вторая брошюра. Grundri? der kritischen Metaphysik.
24) Gedanken und Tatsachen, т. 2, второй том, 1-й и 5-й разделы.
25) Klimax der Theorien, pp. 77—93.
LITERATUR – Viktor Stern, Die Erneuerung des kantischen Kritizismus durch Otto Liebmann, Vierteljahrsschrift f?r wissenschaftliche Philosophie und Soziologie, 33. Jhg, Neue Folge, Bd. 8, Leipzig 1909.
ФРИДРИХ ЭДУАРД БЕНЕКЕ
Кант и философская задача нашего времени
Введение
Для философской истины, как, собственно, и для всякой другой истины, по внешним признакам существует только один критерий: общее согласие, очевидность, с которой она заставляет признать ее каждого, кто, имея достаточное предшествующее образование, беспристрастно пытается воссоздать ее в себе. Поэтому вопрос лишь в том, чтобы добиться всеобщего беспристрастного рассмотрения новой доктрины: и мы сможем быть уверены в том, что суждение о ней будет полностью обоснованным. Конечно, для этого недостаточно одобрения мыслящих людей какого-то времени, какого-то одного народа: ведь в результате особой конъюнктуры ложная ассоциация идей может на какое-то время настолько завладеть умами, что сразу же подавит всякую попытку проверить ее; а история науки знает слишком много примеров, когда совершенно необоснованные утверждения десятилетиями, а то и столетиями превозносились как незыблемые истины. Но будущее, как высшая инстанция, разрушает это суждение, низвергает величественное с его предполагаемой высоты и низводит его в унизительное состояние, так же как, с другой стороны, оно нередко готовит почетный трон для несправедливо униженных и презираемых. Если КАНТ и был философским мыслителем, то он, несомненно, был твердо убежден, что его воззрения оправдают себя именно таким образом, как это только что было описано. В самых убедительных формулировках он неоднократно выражает в своих трудах уверенность в том, что благодаря его критике пределы человеческого знания будут неизменно установлены на все времена, что столь же пагубной и оскорбительной смене философских систем будет навсегда положен конец, и что философы получат возможность единодушно, не разрушая заново фундамент своего здания, строить на однажды непоколебимо заложенном основании прочные и спасительные для всех человеческих условий сооружения. «Я думаю, что (говорит он в предисловии к первому изданию своей «Критики чистого разума») читателю будет полезно объединить свои силы с усилиями автора, если у него есть перспектива завершить большую и важную работу в соответствии с представленным планом, полностью и в то же время постоянно». Теперь метафизика, сообразно с теми терминами, которые мы здесь дадим ей, является единственной из всех наук, которая может обещать себе такое совершенство – и то в короткое время – и лишь с помощью немногих, но объединенных усилий, так что потомкам ничего не остается, кроме как расположить все согласно своим намерениям в дидактической манере, не будучи, таким образом, в состоянии увеличить содержание ни в малейшей степени». (1) Мы спрашиваем: получила ли кантовская система такое беспристрастное толкование? – После того, как в течение короткого времени она не привлекала к себе внимания, мы видим, что она была принята большим числом талантливых мыслителей с, пожалуй, слишком неистовым ликованием; и даже если оно вскоре угасло или, скорее, постепенно перешло в контрастные тона, тем не менее, среди нас и среди всех философски образованных народов вплоть до последнего времени не было недостатка в тех, кто, нисколько не возражая против нее, сделал ее предметом своего напряженного изучения с очевидным предпочтением. Что же: оказало ли оно такое принуждение, действительно ли оно приобрело всеобщее согласие? – Кант хотел навсегда покончить со сменой систем.
Но никогда еще они так быстро, с такой головокружительной поспешностью не следовали друг за другом, как только за последние четыре десятилетия; никогда еще большее число различных систем, некоторые из которых даже находились в полной оппозиции, не находили себе убежденных приверженцев и страстных защитников плечом к плечу.
Но никогда еще они так быстро, с такой головокружительной поспешностью не следовали друг за другом, как только за последние четыре десятилетия; никогда еще большее число различных систем, некоторые из которых даже находились в полной оппозиции, не находили себе убежденных приверженцев и страстных защитников плечом к плечу. Кант хотел установить границы человеческого познания на все будущее; и действительно, можно спросить, в каком еще до сих пор просвещенном веке философы преступали их со всех возможных сторон и более безрассудно, чем после появления «Критики чистого разума»? И что еще более усиливает изумление: все эти системы, стоящие в полной оппозиции к основной тенденции кантианства, претендуют на то, чтобы быть его истинными и подлинными преемниками, не хотят делать ничего иного, как продолжать строить на фундаменте, заложенном Кантом, и на самом деле увековечивают скипетр и империю, принадлежавшую ему, хотя и значительно уменьшенную в субъектах, по прямой линии между собой вплоть до последнего основателя системы.
Итак, нет сомнений в том, что кантовская система оказалась непригодной для того, чтобы доказать свою универсальную обоснованность через принудительную настройку. Но откуда это взялось – учитывая гениальную силу, благоразумие и осмотрительность, с которыми КАНТ подошел к своему великому предприятию? – Ответ на этот вопрос представляет в то же время величайший практический интерес. То, к чему стремился Кант – навсегда покончить со ссорами и сменой систем и утвердить философское знание в неизменном виде, – это то, к чему всегда стремился каждый настоящий философский ученый и к чему каждый философский ученый должен стремиться и в будущем. Не является ли поэтому крайне важным дать отчет о причинах этого столь неблагоприятного и неожиданного успеха, чтобы мы могли избежать в своих собственных начинаниях того, что помешало кантовскому предприятию, начатому с такой уверенностью в успехе? – Конечно, только при этом условии мы можем надеяться на более благоприятный успех нашей собственной деятельности.
Конечно, сейчас, как никогда ранее, эта надежда почти у всех, кто не является приверженцем той или иной философской системы, вызывает усмешку по поводу глупости. Сегодня, как никогда прежде, можно услышать, что философия всегда будет и должна быть стражем, которым каждое время и каждый народ пользуется по своему вкусу. Для нее нет спасения от кругового движения, которое снова и снова поворачивает вниз то, что было вверху, и наоборот; по этой причине можно придать изучению философии лишь формальное значение, как упражнению сил, как умственной гимнастике, но ни в коем случае не в отношении ее содержания или знания, которое мы приобретаем благодаря ей.
Эти взгляды теперь настолько распространены среди нас, что даже дальнейшее продолжение этих беспрерывных перетеканий философии в бескрайние пределы было признано некоторыми нашими философскими мыслителями необходимым. И действительно, можно обвинить кого-нибудь в этом взгляде, если взглянуть на наше недавнее прошлое: где каждая новая система обещала конец философским блужданиям, и все же за новой системой следовала новая, а за ней снова новая: так часто, что даже сейчас требуется более чем детская добродушная доверчивость, чтобы верить таким обещаниям. Более того, перед нами завидный пример естественных наук, где капитал, однажды нажитый, переходит от одного ученого к другому, не уменьшаясь и ежедневно принося новую прибыль: где каждое открытие немедленно оглашается из одного конца образованного мира в другой и таким образом, спустя всего несколько месяцев, возможно, в сотне миль от места своего рождения, снова оказывает оплодотворяющее действие для приобретения более высокого знания или для применения к жизни, распространяя процветание и радость. Однако при ближайшем рассмотрении именно это сравнение, столь унизительное на первый взгляд, дает нам надежду на то, что философия все же превратится в общепризнанную и общепризнанную науку. Давайте обратимся к далекому прошлому. Чем была самая авторитетная из естественных наук, астрономия, до КОПЕРНИКА и КЕПЛЕРА? Разве что системой допущений и грез, за которыми следовали другие системы допущений и грез, ни одна из которых не могла оказаться единственно верной, и между которыми сомневающемуся наблюдателю приходилось метаться так же неловко, как сейчас между нашими философскими системами. Или, если нам нужны примеры из более позднего времени: возьмем физику два века назад, химию до изгнания флогистона и открытия простых видов воздуха. Разве не совершали они ошибки то тут, то там и бесчисленное количество раз, разве не писали и не бредили о философском камне и изготовлении золота, как, к сожалению, до сих пор пишут и бредят о высшем принципе философии и происхождении всего сущего из абсолютной пустоты или небытия? – А ведь физика и химия – это уже прочно утвердившиеся науки, о дальнейшем развитии которых, правда, можно спорить то тут, то там, но где никому не приходит в голову, что надо было бы снова разрушить фундамент и заложить новый. Поэтому будет недальновидно, если в отношении развития философии захочется без лишних слов заключить от того, что было, к тому, что будет в будущем. Природа человеческого знания означает, что оно может прийти к истине только через ошибку и что знанию должны предшествовать догадки и копошение. Так было и в тех науках, которые сегодня достигли всеобщего признания. Но у каждой науки есть свое время, когда она переходит от этого состояния шаткости к состоянию постоянства. В силу ясности и определенности, а также ограниченности материала, подлежащего обработке, этот переход должен был произойти раньше всего для математики, для астрономии на столетие раньше, чем для физики, за которой только после нового промежуточного периода могла последовать химия.
И даже если в природе обрабатываемого материала и в отношениях развития можно показать много причин, почему философия должна быть последней из всех, все равно будет трудно доказать, что она никогда не получит той формы, в которой она действительно станет наукой, более того, что она лишь достигнет того уровня, который мы постоянно требуем для самого посредственного знания.
Достичь цели, к которой тщетно стремился Кант, отнюдь не невозможно, и ясный отчет об ошибках, которыми он препятствовал этому, окажется чрезвычайно плодотворным для наших собственных исследований. Для этого, однако, подходящее время, кажется, наступило именно сейчас. В этом году исполнилось полвека с тех пор, как «Критика чистого разума» впервые увидела свет. Страстное возбуждение умов за и против нее утихло. С одной стороны, взгляды Канта нашли широкое и почетное признание даже за рубежом; с другой стороны, не осталось, пожалуй, ни одного чистого кантианца. Его принципы нашли многочисленные применения в других науках и в жизни; на их основе возникло множество других систем, и поэтому кажется, что во всех отношениях теперь стала возможной беспристрастная и более глубокая их оценка, как самих по себе, так и в соответствии с их плодами. Задача такого исследования тем более актуальна, что в результате господства кантовских философов и философов, вышедших из них, между нашими и всеми другими народами произошло полное разделение в том, что касается философских исследований. Даже в середине прошлого века мы видим, как все народы работают вместе, как в других науках, так и здесь. То, чего достигли Локк и Беркли, то, чего достигли Шэфтсбери, Хатчесон, Адам Смит и Юм в Англии, то, что сделали Бонне и Кондильяк во Франции, тотчас же стало живым зародышем в Германии, а принципы Лейбница и Вольфа были приняты с уважением и получили дальнейшую обработку в других странах. Даже сейчас среди других философски образованных народов можно обнаружить те же самые взгляды. Учение шотландской школы высоко ценится во Франции и Италии; труды Ларомигьере, Трэйси и Кузена известны и изучаются в Италии и Англии, а последние итальянские философские авторы высоко ценятся во Франции. Только мы, немцы, исключены из этой ассоциации и отделены от всех других народов как бы непреодолимыми барьерами. В то время как мы объявляем их (как ни странно, оглядываясь на их прежние достижения и особенно на достижения английских философов) обделенными всяким истинным философским духом, они считают нас энтузиастами: что мы до такой степени захвачены бесформенными туманными образами и в то же время жалким самомнением, что едва ли способны время от времени тускло взглянуть на реальный мир здесь, внизу, и что каждый, кто хочет жить как человек с людьми и формировать ясные понятия и суждения об их природе и условиях, должен поэтому остерегаться их интеллектуальных продуктов.
Если отдельные люди и бросали вызов этим осуждающим речам и барьерам, создаваемым ими, то они оставались отдельными людьми; и как среди других народов о наших системах не говорят вообще или говорят только с презрением, так и среди нас, которые в других вопросах по праву претендуют на славу поставщиков знаний, в течение трех десятилетий ходили только темные и смутные слухи о том, что было достигнуто для философии иностранными учеными. Как бы быстро мы ни пересаживали на нашу почву иностранные научные открытия, как бы чисто и живо ни звучала для нас лира других народов: в течение двадцати, а может быть, и тридцати лет в нашей стране не появилось почти ни одной публикации, ни одной подробной оценки зарубежного философского труда. Тем спокойнее мы можем играть своими формулами в сладостной саморефлексии и успокоенности! Очевидно, что такие взаимоотношения не могут способствовать прогрессу и репутации философии. Натуралисты, дельцы, словом, все те, кто непосредственно соприкасается с жизнью, уже с презрением смотрят на науку, в которой, если бы взаимоотношения были правильными, они должны были бы искать и находить глубочайшее объяснение всему, что может стать проблемой для более серьезных мыслителей среди них. И мы не можем доказать, что они были неправы. Ибо не является ли основным условием всякой философии то, что она должна определять и разъяснять то, что природа и жизнь дают нам в зыбком, запутанном и неясном виде? Как же можно винить тех, кто презрительно отворачивается от учения, которое вознаграждает за самые упорные усилия не более чем суетной славой, что один понимает то, чего не понимают другие, а в остальном лишь еще большей неясностью и тревожной путаницей понятий?
И как долго продлится эта слава? Во Франции и Англии люди могут все еще верить, что вся Германия занимается только метафизикой (2); даже те несколько десятков голов, которые образуют школу здесь и там, не читая ничего, кроме своих собственных трудов и друг друга, могут все еще воображать, что весь мир занят только ими. Но беспристрастный наблюдатель не будет обманут. Доля философии у нас сейчас ниже, чем где бы то ни было, и более чем когда-либо, если в ближайшее время не появится deus ex machina [Бог из машины – wp], следует опасаться полного банкротства. Вот уже двадцать лет ни один журнал, посвященный исключительно философии, не смог выжить дальше первых нескольких номеров; почти ни один философский трактат не появляется ни в одном другом журнале, а если и удается черкнуть что-то подобное здесь или там, то это откладывается в сторону, не будучи прочитанным.
В философских работах (число которых все более сокращается) цитируются, в лучшем случае, труды тех школ, к которым принадлежит автор; все остальное ему не доступно; и дело дошло до того, что между противоборствующими сторонами уже невозможна никакая полемика. Для них потеряны все точки соприкосновения; то, что для одного белое, для другого черное, начиная с первых базовых понятий и положений; язык одной школы абсолютно непонятен для другой, и скоро дело дойдет до того, что каждый будет говорить только с самим собой.
Поэтому давно пора, наконец, прийти к осознанию того зла, которое так долго творилось с самым высоким и святым под предлогом представления внутренней сути всего сущего в чистейшей истине. Но если мы не хотим подвергать себя опасности, что язва, залеченная в одном месте, вновь прорвется с еще большей опасностью в другом, мы должны направить нашу критику не на одну из дочерних или внучатых философий, а на саму кантовскую философию, чтобы, возможно, обнаружить в ней корень зла и перекрыть у ее истоков поток, грозящий затопить Германию интеллектуальным варварством. Поэтому в первом разделе наших рассуждений мы представим основные тенденции «Критики» Канта и причины ее неудачи; во втором – дадим общий очерк характера позднейших немецких систем как результата этого; в третьем – бросим, наконец, несколько взглядов на наше настоящее и ожидаемое от него будущее.
Примечания