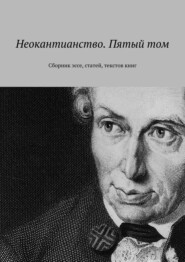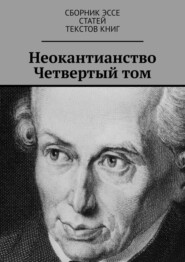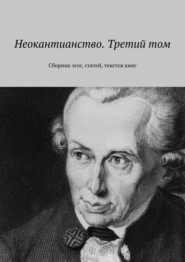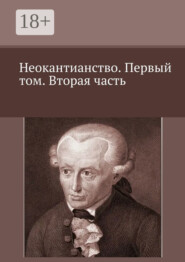По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неокантианство. Второй том
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ЯКОБ СИГИЗМУНД БЕК
Единственная возможная точка зрения с которой критическая философия должна оцениваться
Предисловие
Сделать призыв к разуму высшим принципом философии – это начинание, которое, судя по нынешнему состоянию философии, не заслуживает особых аплодисментов; более того, можно подозревать, что оно вызовет недовольство и определенное презрение к его автору со стороны тех, кто в наше время считается защитниками этой науки. Что бы ни понималось под этим призывом, в нем, кажется, есть нечто, что противоречит всем философским процедурам и недостойно философа. Конечно, если бы кто-то утверждал: этот судья в высшей инстанции может выносить властные решения, это было бы очень непоследовательно и, конечно, недостойно понимающего человека. В таком случае не было бы здравого смысла, а каждый ссылался бы на свой собственный и в то же время принимал бы идеи последнего за непогрешимый камень истины. Нельзя также отрицать, что если вывести из поведения многих философов правило, согласно которому они действуют, то это правило обнаруживает именно такую непоследовательность. Оппоненты знаменитого Юма дают нам полезные примеры этого. Великий человек действительно имел в виду полную непостижимость понятия причинности. В раскрытии этой непостижимости он действовал в подлинно скептическом ключе, поскольку именно раскрытие непостижимости определенных понятий характеризует истинного скептика. Он стремился поколебать именно точку зрения одних лишь понятий, максиму догматического мышления. Но поскольку он не направил свое внимание на изначальное использование разума, которое одно только и содержит разумность наших понятий, он впал в ошибку своих оппонентов и сам оказался догматиком и, таким образом, непонятным для самого себя; это утверждение, мы надеемся, будет признано верным каждым, кто обратит внимание на это письмо, которое мы представляем публике. Но как вели себя его оппоненты? Они апеллировали к разуму. Термин «разум» подразумевает нечто очень истинное и, безусловно, фактический камень, определяющий всю истину и весь смысл наших понятий; но их процедура учит обратному, а именно, что под этим термином они подразумевали свой чисто субъективный интеллект, который, как предполагалось, способен делать сильные заявления, в действительности же только страсть и упрямство обозначались ими этим именем.
Даже если призывы к разуму и обыкновенному рассудку больше не распространены в наше время, то на самом деле из употребления вышло только это имя. Что же касается самого вопроса, то смею утверждать, что эта процедура все еще так же распространена, как и прежде. Возможно, что многие поклонники критической философии, как и некоторые ее противники, не сохранили себя полностью свободными от страсти, которая руководила их утверждениями; но я слишком высоко ценю заслуги многих достойных людей, принявших участие в исследованиях, начатых критической философией, чтобы мне пришло в голову вменить им мелкие порывы. Хотя я не осмеливаюсь выдвигать такое обвинение, труды этих людей, равно как и публичные оценки этих трудов, являются для меня убедительными доказательствами того, что общий образ мышления наших философов по-прежнему состоит в обращении к здравому смыслу. Под этим я подразумеваю догматический образ мышления, у которого, на мой взгляд, гораздо больше друзей, чем можно подумать, если придерживаться одной лишь буквы. Ибо я уверен, что большинство поклонников критической философии, людей, пользующихся моим уважением, придерживаются этого образа мышления, в котором заключается один лишь догматизм, как бы они ни представляли его в своих трудах в качестве доктринальной концепции, чьи утверждения не имеют никакой силы. Если философы, обозначенные титулом «догматики», учат, что определенные понятия являются для нас врожденными, то философы-критики отрицают это. Напротив, они утверждают, что эти самые понятия лежат в нас априори и ждут лишь материала из опыта, чтобы перейти в применение. Они учат, что эти понятия представляют собой возможности опыта. В этом, конечно, они говорят вслед за Критикой чистого разума; но вскоре становится очевидным, что они слышали это утверждение Критики вовсе не в критическом духе, а в подлинно догматическом образе мышления. Таким образом, они отличаются от своих оппонентов не более чем простыми выражениями и формулами. Они стоят с ними на позициях простых понятий, то есть представлений о вещах, наделяя их определенными чертами. Пока они утверждают, что вещи обладают субстанциальностью, причинностью, величиной, объективностью и т.д., они могут называть эти понятия чистыми понятиями, которые априорны в нас; тем самым они ничего не различают и не могут избежать нападок скептика, упрекающего их в собственной непостижимости в вопросе о связи идей с их объектами. Эти философы, которые критичны только по букве, используют простую формулу, что мы знаем вещи только так, как они нам представляются; по духу же они утверждают знание вещей как таковых, именно потому, что они истинные догматики. Истинная критическая философия отличается своим образом мысли, а он состоит в том, чтобы встать на точку зрения изначального использования понимания, на которой основывается взгляд на категории как на понятия, то есть как на определения, посредством добавления которых мы представляем себе объекты; а наука об этом изначальном использовании понимания есть трансцендентальная философия.
Мы могли бы назвать эту трансцендентальную философию призывом к разуму, если бы это слово уже давно не использовалось в указанном извращенном смысле. Кроме того, дело трансцендентальной философии состоит в том, чтобы препарировать использование разума как такового, а затем апеллировать к этому разуму. Соответственно, однако, оно имеет очень разумное значение, о котором многие наши философы имеют все основания напоминать. Она заключается в том, чтобы свести наши понятия к разумению; но при этом требуется не что иное, как близкое знакомство с тем, что составляет всю постигаемость, то есть с изначальным использованием его.
В данной работе я попытался изобразить это оригинальное использование способности к разумению и тем самым нанести удар по тому пункту, который делает философию Канта критической. Она состоит из четырех разделов. В первом я попытался развить догматический образ мышления. Мое намерение состояло главным образом в том, чтобы показать, что распространенный и почти общий взгляд на критическую философию сам по себе является догматизмом. Я считаю, что в вопросе о связи между идеей и ее объектом я нащупал ту точку, которая может привести догматика к осознанию себя под любой личиной. Этот вопрос должен казаться важным каждому, кто не достиг трансцендентальной точки зрения категорий. Но с достижением этой точки зрения его важность исчезает, а его истинная пустота видна всем, кроме трансцендентального философа. Во втором разделе представлена эта трансцендентальная точка зрения. Моя цель состоит в том, чтобы способствовать проникновению в дух категорий и тем самым фактически вскрыть изначальное использование рассудка такового.
Третий раздел содержит оценку метафизических принципов естествознания, критики чистого (спекулятивного) разума, практического разума и силы суждения. Эта оценка фактически направлена на то, чтобы показать, что вся критическая философия полностью открыта для нас во всех своих утверждениях, когда мы полностью овладеваем этой трансцендентальной позицией. Наконец, в четвертом разделе я дал комментарий к трансцендентальной части «Критики чистого разума», целью которого является оценка метода и освещение отдельных фрагментов этой трансцендентальной философии, разработанной с точки зрения изначального использования разума.
Мне представляется, что критическую философию постигла участь, которую заранее провозгласил ее бессмертный создатель, а именно: на какое-то время все останется по-прежнему и будет иметь вид, что ничего не произошло. Ибо хотя эта система довольно быстро наделала много шума и продолжает его наводить, все оставалось бы по-прежнему, пока ей не удалось сделать образ мышления философов критическим, а для этого, по правде говоря, требуется нечто иное, чем некоторые склонны воображать, поскольку, нагромождая тонкости на тонкости и вновь различая тончайшие различия, они в конце концов убеждают себя, что нашли критический идеализм высшей степени. Эта необходимость есть не что иное, как первоначальное использование познания в категориях, на котором должно основываться все логическое использование разума, то есть вся процедура с понятиями и взгляд на категории как на понятия, если мы хотим понять себя в них. Но когда я рассматриваю подобные изменения в самом способе мышления, которые, поскольку они действительно являются изменениями в точке зрения, с которой мы смотрим на вещи, становятся всеобщими очень медленно, особенно когда они связаны с жертвами якобы глубокой мудрости, и рассматриваю противоречие, которое поначалу испытывала мировая система Коперника или ньютоновское всеобщее притяжение: Я также нахожу очень медленно происходящее превращение догматического образа мысли в истинно критический, взгляд на наше знание, как на знание вещей самих по себе, в взгляд на знание явлений, и это не только с учетом их связи, но и их привязанности в каждом индивидууме, очень распространенным явлением. Но я убежден, что, поскольку путь к этому был так счастливо проложен критическими работами великого Канта, мы, безусловно, движемся к распространению и укреплению этого образа мышления.
Первый раздел: Представление трудностей, проникновения в дух критики
§1. подготовительное указание предмета, подлежащего изучению
Как бы ни относиться к науке, называемой метафизикой и спекулятивной философией, все же следует признать, что для назидания этой науки не требуется ничего больше, чем ознакомление с нашими собственными способностями к познанию. То, что должно прийти ко всему, что называется вещью, не может быть получено из опыта, путем наблюдения, а конкретные вещи, о которых метафизика берется нас наставлять (Бог, свобода и бессмертие), очевидно, имеют такую природу, что этот способ исследования не может быть включен в помощь нам в познании их. При таком взгляде на вещи, конечно, странно, что знание, которое по самой своей природе не может быть почерпнуто ни из какого другого источника, кроме как из нас самих, не достигло совершенства раньше.
Итак, желая в общих чертах указать на трудности, которые могут помешать изучению критики разума, мы наталкиваемся на точку, которая является как бы общей ложной звездой, которая не только вводит нас в заблуждение, когда мы пытаемся раскрыть для себя эту критику, но и которая до самого своего появления мешала разуму понять самого себя. Ибо есть одно требование, которое, как мне кажется, я могу предъявить каждому мыслящему человеку, если он честен с самим собой, а именно: признаться, что связи мысли, чье часто дивное воплощение он привык называть метафизической системой, никогда его не удовлетворяли. Критерий правильности нашего мышления, заключающийся в сравнении нашего представления о предмете с представлениями других людей, кажется совершенно неприемлемым в метафизических вопросах, потому что при нем мы, вероятно, не можем быть уверены в том, что любое из наших утверждений будет общепризнанным. Правда, в этом случае есть средство спасти наше мнение, которое заключается в уверенности, что другие люди нас не понимают; но насколько мало это полезно в конечном счете, каждый, вероятно, знает на собственном опыте. Если мы хотим быть честными с самими собой после таких испытаний, то в конце концов всегда обнаружим, что другие понимающие существа не понимают нас только потому, что мы сами не разобрались в себе. Но верно и то, что долгое время не было принято обвинять наших оппонентов в непонимании наших утверждений, как в наши дни; и особенно эта жалоба кажется свойственной критическим философам. В том, что даже эти люди часто не понимают самих себя, я убежден. При таком положении дел, однако, любая попытка донести свои мысли до собеседника заранее представляется бесплодным занятием. Подобные размышления о состоянии спекулятивной философии во все времена, и особенно о состоянии спекулятивной философии в наши дни, должны ослабить уверенность в правильности наших собственных прозрений в этой области. Если эти прозрения не касаются ничего, кроме того, что известно, признаем ли мы вещи как таковые или только их внешний вид, способны ли мы вообще к познанию сверхчувственного; если они содержат опровержения критики, основанные не более чем на предположении о противоречии, или защиту своих утверждений, даже если она ведется только по этому дискурсивному пути: публику уже так часто и безрезультатно развлекали подобными вещами, что она поступит справедливо, если не захочет больше уделять этим занятиям никакого внимания. Автор этой работы все это тщательно обдумал. Поскольку теперь он осмеливается представить свои мысли публике, то хочется узнать причины, побудившие его к этому; поскольку из этой прелюдии уже можно предположить, что его предмет также, так или иначе, связан со спекулятивной философией, то хочется спросить, почему он уверен, что понимает себя и что его озарения не являются лишь допущениями. Сейчас он не может сделать ничего, кроме как попросить читателя терпеливо ждать хода дела и отложить свои суждения до того времени. Дабы, однако, в какой-то мере и на время привлечь внимание читателя к своему предмету, автор, по мере сил, раскроет тот пункт, который он считает источником всех разногласий в философии. Критика чистого разума ясно предусмотрела этот пункт, и она заслуживает того обрамления, которое имеет, только потому, что она достигла такой точки зрения, с которой все эти путаницы разума могут быть оставлены без внимания, и разум обязательно должен понять себя с этой точки зрения. Но эта критика лишь постепенно подводит своего читателя к этой точке, которую мы можем назвать точкой зрения использования разума. Этот метод кажется наилучшим; но он сопряжен с тем неудобством, что только тот читатель будет считать путь ведущим к цели, кто уже сам полностью овладел этой целью, и что, с другой стороны, тот, кто еще не овладел этой точкой зрения, не сможет легко удержаться на этом пути и, следовательно, как бы с закрытыми глазами окажется в том месте, с которого, как с самого высокого, он иначе созерцал бы критику со всей яркостью. Критика называет эту точку зрения синтетическим, объективным единством сознания». Но мы еще не зашли так далеко, чтобы познакомить читателя со всем духом этого понятия. Однако он уже понимает, что здесь необходимо собраться с силами, и что, хотя я, в силу большой ясности моих представлений о критике и моей убежденности в ней, могу с уверенностью пообещать провести его безопасным путем, тем не менее с его стороны необходимо действовать со всей серьезностью, и, если он не может решиться на это, у меня есть все основания просить его воздержаться от суждений о том, что я представлю; Но чтобы показать ему, что если его способ представления не совпадает с моим, то он, конечно, вообще ничего не знает в отношении этих вопросов, пусть он теперь назовет себя догматическим, скептическим или критическим философом, пусть он теперь думает, что и то и другое знает вещи сами по себе, что он также способен перечислить эти знания, и наполниться указаниями на эти сущности, или, напротив, убедиться, что все наше знание имеет неопределенное основание, или, наконец, наговорить столько всего об аналитических и синтетических суждениях, о чистых взглядах и категориях, о трансцендентальных и трансцендентальных понятиях, – чтобы показать ему, что он вообще ничего не знает обо всем этом: Надеюсь, что для меня это не составит труда.
§2. Понятие связи между идеей и ее объектом и ее объектом, в той мере, в какой последняя не имеет объекта, является источником всех ошибок спекулятивного разума
Что может быть чудеснее, чем утверждение, что некое понятие постоянно присутствует в нашем сознании, пока активна наша способность познания, и что все наши идеи представляют себе нечто лишь постольку, поскольку мы имеем дело с этим понятием, и что при этом оно совершенно пусто и не имеет никакого объекта? Тем не менее, именно так обстоит дело с понятием отношения наших представлений к объектам. Ведь то, что я соотношу свое представление с объектом, является, так сказать, содержанием всех моих познаний. Если мы заменим это выражение на такое: объект соответствует моей идее, или она объективно действительна, то кажется, что тем самым подчеркивается смысл этих одинаково важных выражений. Но чем больше мы обращаем внимание на это соответствие наших идей объектам, тем большее смущение мы сами должны испытывать, размышляя о смысле этого высказывания. Ибо я спрашиваю, что, собственно, должно означать: моя идея согласуется со своим объектом; идея и ее объект, в конце концов, совершенно отличны друг от друга. И все же говорится, что они находятся в связи. Но я спрашиваю, что это за связь, и не вижу, где можно найти объект для этого понятия. В чем заключается связь между идеей и ее объектом? Сказать, что объекты воздействуют на нас и тем самым порождают идеи, – это все равно, что ничего не сказать. Ведь на вопрос о связи между идеей и ее объектом нужно было бы ответить, если бы идею можно было назвать объективно действительной через причинный объект. Называть это соответствие идей с их объектами отношением тоже бесполезно. Ибо что значит сказать, что идеи являются признаками объектов? Установление отношения между идеями, соответствующего тому, которое существует между объектами, не имеет никакого смысла. Соответственно, понятие связи между идеей и ее объектом не имеет объекта и поэтому является совершенно пустым понятием.
Поэтому нельзя отрицать, что процедура идеалиста, отрицающего всякую связь идей с их объектами, очень философична. Догматические философы утверждают такую связь и никак не могут ее обозначить. Тот, кто имеет самомнение опровергать идеализм, не замечает истинной сути дела. Здесь не имеет значения определенное деление понятия идеи, и нельзя ответить на вопрос, что уже в этом понятии идея представляет себе объект. Ведь поскольку понятие объекта не есть сам объект, всегда остается вопрос о том, какая связь существует между понятием и его объектом. Поэтому Беркли справедливо отрицал существование вещей в пространстве. Ибо отрицать это, как и отрицать связь идей с их объектами, в точности одно и то же. Поэтому можно сказать, что догматический идеализм все же гораздо более разумен, чем просто проблематический идеализм. Ибо этот вопрос, рассмотренный должным образом, не оставляет сомнений в том, что связь представлений с их объектами является чем-то совершенно воображаемым, и что это понятие вообще не имеет объекта. Поэтому, чтобы иметь возможность сказать, что моя концепция объекта имеет объект (объект соответствует ей), я обязательно должен быть в состоянии указать объект для концепции связи представлений с объектами. Идеалист совершает непоследовательность только тогда, когда утверждает, что Я есть несомненно определенное. Ибо поскольку это Я также вновь распадается в согласии идеи себя с моим предметом, остается вопрос во всей его тяжести: какова связь между идеей себя и самим предметом?
Хотелось бы, чтобы человек почувствовал этот идеализм во всей его энергии. Ведь искреннее раскрытие его силы и неопровержимости с точки зрения догматической философии – это, как лучше всего покажет этот предмет, первый шаг к постижению духа критического идеализма. В наше время многократно поднимался вопрос о том, признаем ли мы вещи как таковые или их явления. Нисколько не желая оскорбить заслуги достойных людей, которые так или иначе решали этот вопрос, я должен признаться, что очень редко встречал настоящее изложение критического идеализма. Я не могу сейчас предвосхитить то развитие, которое я дам. Пока лишь напомню, что и догматизм, и идеализм не судят об отношении объектов к способности познания с точки зрения критической философии. Поэтому идеализм Беркли справедливо отрицает связь идей с объектами, поскольку такая связь на самом деле ничто. Поэтому он имеет полное сходство с догматической философией в том, что имеет в виду познание вещей как таковых и не имеет ни малейшего представления о познании объектов как явлений. Ибо для того, чтобы подвести разум к этому месту, где он один может понять и согласиться с самим собой, необходимо было глубокое исследование Кр. д. р. В. В. исходного представления. Истинная причина всех мнимых наук о сверхчувственном заключается в том, что с незапамятных времен мы не выходили за пределы дискурсивного представления и не рассматривали его как всего лишь производное, которое должно быть основано на первоначальном представлении; то есть до появления критики мы так и не пришли к трансцендентальной философии. Ибо не думаю, что попытки Локка и Лейбница были хоть в малейшей степени направлены к этой цели. Но также совершенно определенно, только читатель должен набраться терпения, пока мы не введем его в курс дела, что, если только человек не обращает свой взор к первоначальной доктрине и не думает найти конечный источник всего знания в чисто производной, дискурсивной доктрине, этот способ мышления является именно таким, Этот способ мышления – именно тот, согласно которому человек убеждает себя в том, что он знает вещи как таковые, и что, если он не достиг полностью позиции трансцендентальной философии (синтетического, объективного единства сознания), он никогда не постигнет противоположного, а именно: что значит сказать, что мы знаем вещи лишь постольку, поскольку они нам представляются. Вполне естественно истолковать это утверждение «Критики» как идеализм самого Беркли, согласно которому все наше познание есть не что иное, как простое сновидение. Ибо как иначе можно понять утверждение самой «Критики», что объекты нашего познания – это не вещи сами по себе, а всего лишь представления? Здесь еще не место объяснять читателю понятие явления, поскольку такое толкование равносильно исключению первоначального представления, и мы все же считаем необходимым лишь намекнуть на это действие заранее и обратить его внимание на путаницу, которая неизбежно должна возникнуть из-за упущения трансцендентального рассмотрения.
Но читатель обратит внимание вот на что: мы смогли утверждать, что понятие связи между идеей и объектом пусто лишь постольку, поскольку идея просто дискурсивна и не основана ни на каком оригинале, что есть не что иное, как постольку, поскольку вещь-в-себе воображается в идее. Но Беркли не придерживался иного мнения, и его утверждение о том, что между идеей и ее объектом нет никакой связи, тем самым является совершенно неопровержимым. Если мы теперь находим в «Критике» опровержение этого идеализма Беркли, то нам не нужно верить, что оно представляет противоположное, а именно, что действительно существует связь между идеей и ее объектом, согласно тому понятию, которое Беркли и догматическая философия имеют о такой связи; ибо последняя, хуже того, вообще не имеет объекта: Но после того как Критика установила высший принцип всей философии и всего применения разума, тот, кто постиг его, а именно синтетическое объективное единство сознания во всем его смысле, должен понять, что между понятием и его объектом действительно существует связь, но не понятия, поскольку оно определяется как просто дискурсивное, без всякой связи с первоначальным понятием, а поскольку в самом первоначальном понятии заключена эта связь, и действительно это синтетическое единство составляет его.
В этом параграфе мы лишь хотели указать на источник ошибок любой философии, обращенной к спекулятивному, если она не является трансцендентальной философией. Она состоит именно в отсутствии трансцендентальной точки зрения, в полном обходе исходной концепции и, таким образом, в том, что человек хочет найти в простом дискурсивном мышлении отношение нашей концепции к объектам, то есть связь между ними. Но до тех пор, пока мы полностью не овладеем этой точкой зрения, не исключено, что и критическая философия останется для нас непонятной во всех своих утверждениях. Не находясь на этой точке зрения, мы вполне можем привыкнуть к ее языку, но пелена застилает наши глаза, так что, хотя мы и ходим при свете, мы не видим предметов, которые нас окружают. Короче говоря, эта философия должна, если мы только признаемся, иметь совершенно такой же вид, как и все системы, которые были до нее, а именно, что она нагромождает пустые утверждения одно на другое, и в конце концов ожидает другой системы, которая оставит ей место даже просто в истории человеческих экспериментов. Именно это мы и постараемся показать. Ибо мы будем стремиться продемонстрировать полную непонятность и противоречивость, в которые, как кажется, попадает критика, всем и каждому, кто не достиг той точки зрения, с которой только и можно судить о ней.
LITERATUR – Jakob Sigismund Beck, Einzig m?glicher Standpunkt aus welchem die kritische Philosophie beurteilt werden mu?, Riga 1796
ЭДУАРД ЦЕЛЛЕР
Сторонники Канта и противники
1. кантовская школа, ее распространение и борьба с ней
Глубокие изыскания Канта поначалу не получили того внимания, на которое они могли бы претендовать. То, что его инаугурационную диссертацию читали очень немногие, а ее значение признали еще меньше (1), не может быть столь поразительным; но даже «Критике чистого разума» потребовалось шесть лет, чтобы дойти до второго издания; и оценки, которые представители философии Просвещения, такие как Гарве, Федер и т.д., вынесли этой работе, не показали ее основательно. Они в значительной степени лишены тщательности и остроты мысли, которые необходимы для оценки такого труда, и слишком оправдывают упрек, который Кант сделал им в предисловии к «Пролегоменам». Но через несколько лет ситуация постепенно изменилась. Благодаря «Пролегоменам» Канта, «Объяснениям», которые кенигсбергский придворный проповедник ИОГАНН ШУЛЬЦЕ (или ШУЛЬЦ; 1739—1805) опубликовал в 1784 году, «Письмам о философии Канта», которые Рейнгольд опубликовал в 1876 году, новое учение было приближено к всеобщему пониманию; с 1785 года у него появился журнал в недавно основанной «Jenaer Allgemeine Literaturzeitung», в котором его дело велось очень охотно и с большим успехом. Первые редакторы этого научного журнала, филолог Христиан Готфрид Шютц (1747 – 1832) и юрист Готтлиб Хуфеланд (1760 – 1817), автор уважаемого естественного права, были явными кантианцами; В Йене плодовитый философский писатель Эрхард Шмид (1761 – 1812) посвятил себя изложению и объяснению кантовской системы, а в том же университете она имела своего самого знаменитого и влиятельного академического представителя с 1787 года в лице Рейнгольда (к которому я вернусь более подробно позже). В Галле Якоб (1759 – 1827), впоследствии также Зигизмунд Беек и Тьефтрунк (1759 – 1837), не до конца еще определившийся Гоффбауэр (1766 – 1827), представляли кантовскую философию в лекциях и трудах. В последнее десятилетие XVIII века новая школа постепенно пробила себе дорогу во все немецкие университеты, одновременно завоевывая все большую и большую почву благодаря широкой литературной деятельности. Из большого числа ее приверженцев я упомяну, кроме только что названных и тех, о ком будет сказано ниже («Саломон Маймон», «Фихте» и «Шиллер»): Й. Г. К. Хр. Кизеветтер (1766 – 1819) и Л. Бендавид (1764 – 1801) в Лейпциге; Г. С. А. Меллин (1755 – 1825), усердный комментатор Канта, в Магдебурге; С. Мутшель (1749 – 1800) в Мюнхене; Г. Л. Пёршке в Кёнигсберге; Г. Б. Йедше, который впоследствии сблизился с Якоби и Фризом, в Дерпте; два историка философии: В. Г. Теннеманн (1761 – 1819) в Йене и Марбурге и Й. Г. Бюхле в Геттингене. В. Т. Круг в Лейпциге (1770 – 1842) также основывал свой «трансцендентальный синтетизм» в основном под влиянием Канта, но с самого начала он смешивал докантовскую популярную философию с критической философией, работая больше по объему, чем по глубине. Абихт в Эрлангене, долгое время также являвшийся убежденным кантианцем, позднее, в неполном согласии с Рейнгольдом, стремился к усовершенствованию системы, в чем, однако, не добился большого успеха. Краус в Кенигсберге (1753—1807), личный друг Канта и согласный с основами его доктрины, тем не менее, был более склонен к скептицизму, нежели Кант; однако его работы стали известны только после его смерти. Болзано в Праге (1781 – 1848) также стоял на почве кантовской доктрины, но, как и Круг, стремился приобщить ее к философии здравого смысла; изменения, внесенные им в нее, касались, прежде всего, логики и эпистемологии; его рационалистическое отношение к католической догматике стоило Болзано должности преподавателя, хотя он и стремился обосновать ее сверхъестественное происхождение и внутреннее наполнение с помощью разума.
Особое значение для распространения философии Канта имело то, как ее приняли представители других наук, и в целом это прием был очень благоприятным. Естественные науки и медицина, однако, поначалу не знали, как использовать труды Канта в своих целях; лишь позднее и более опосредованно они приобрели значение и для этих наук; И не только кантовское построение материи и идея внутренней целенаправленной деятельности нашли свое отражение в работах многих естествоиспытателей, главным образом при посредничестве натурфилософии Шеллинга, но еще более важным, без сомнения, было влияние, которое критика, через всю свою процедуру, через точность психологического наблюдения, четкое различие между субъективными и объективными компонентами наших идей, также повлияла на естествознание. Однако эта философия оказала гораздо большее влияние на юриспруденцию и политологию, историю, теологию и эстетику. Учение Канта и Фихте о праве легло в основу работы Ансельма Фейербаха (1775 – 1883) о естественном и уголовном праве; его придерживались Хуфеланд, Шмальц, Грос и другие авторитетные авторы трактатов о естественном праве; то же самое относится и к А. В. Рехбергу (1757 – 1836), который сделал себе почтенное имя как государственный деятель и публицист, несмотря на признание, которое он оказывал Спинозе; у Карла Саломо Захария (1769 – 1843) это тоже прежде всего кантовский взгляд на право и государство, который он хотел бы дополнить всесторонним рассмотрением различных форм государства и государственных институтов, их реальных условий и их последствий, не удаляясь, однако, полностью от этой точки зрения. К. Х. Л. Пёлиц (1772 – 1838) следовал кантовским принципам как в политологии, так и в истории; точно так же Карл фон Роттек (1775 – 1840), известный представитель южногерманского либерализма того времени, заимствовал ведущие точки зрения своих исторических, конституционных и политических работ в основном у Канта, а также у Руссо. Ф. К. Шлоссер (1776 – 1861), прекрасный немецкий историк, не столь тесно и прямо был связан с кантовской философией. Хотя он, несомненно, не был чужд философии Канта, его образ мышления в целом был обращен в другую сторону относительно спекуляций и систематики. Но дух кантовской морали, который с середины восьмидесятых годов все более широким потоком разливается по всему немецкому образованию и который даже играет столь значительную роль в политическом возрождении Германии, настолько решительно выражен в исторических работах Шлоссера, что мы без колебаний причисляем их к документам, которые хотя бы косвенно свидетельствуют о силе этого духа. В области эстетики Шиллер (как будет показано далее) умел наиболее плодотворно использовать мысли Канта и в то же время стремился дать больше простора для свободного развития индивидуальной жизни, не забывая, однако, о строгости понятия долга.
Ни одна другая наука, однако, не испытала влияния кантовской философии в большей степени, чем теология. Именно здесь Кант нашел почву для своих принципов, как нельзя лучше подготовленную; при этом, однако, он углубил и усовершенствовал прежний образ мышления, в чем она в значительной степени нуждалась. Сводя религию от догматизма к морали, отрицая всякую ценность веры в сверхъестественное откровение с его чудесами и тайнами, желая, чтобы позитивная религия рассматривалась только как средство чистой веры в разум и требуя от нее, чтобы она все больше и больше растворялась в этом в постоянном совершенствовании, он лишь выражал то, что Просвещение и теологический рационализм утверждали и требовали на протяжении десятилетий. С другой стороны, если он противопоставил господствующему эвдемонизму неумолимую суровость своей моральной доктрины, сделав исполнение долга целью действий и стремлений человека вместо счастья, а также в религии, оценивая значение религиозных верований и культовых действий только по их отношению к этой единственной безусловной задаче, он дал разумной религии содержание, разумной вере убедительность, которой до сих пор не было ни у кого из представителей Просвещения, кроме Лессинга. Таким образом, взгляд Канта на религию в равной степени отвечал моральным и интеллектуальным потребностям времени; он был приемлем для просвещенных своей рациональностью, своей независимостью от позитива, своей чисто практической направленностью, а для религиозных – своей моральной строгостью и достойными представлениями о христианстве и его основателе. Подобно тому, как немецкая теология ранее опиралась на философию Лейбница-Вольфа, теперь она опирается на кантовскую философию; И даже если последняя с ее эпистемологическими изысканиями была слишком глубока для большинства теологов, историческая и догматическая критика теологических традиций получила продолжительный импульс от школы мысли, которую Кант ввел в философию, а его моральная теология через несколько лет стала основой, на которую почти без исключения опиралась протестантская теология в Германии и даже католическая теология, и на которой два враждебных по духу брата, супранатурализм и рационализм, вели свои сражения. Последний, однако, имел решающее преимущество перед первым, поскольку в его пользу говорило не только то, что он был заблаговременно подготовлен авторитетным мастером, но и то, что его точка зрения была последовательной. Кто научился смотреть на все традиции и мнения глазами критика, кто позволил себя убедить благодаря Канту в достаточности чистой веры в разум, в бесполезности всего церемониального в религии, на того должна была произвести Критика большое впечатление, например, когда Зюскинд (1767—1829) утверждал в Тюбингене, что сверхрациональные истины могут быть открыты человеку, потому что при определенных обстоятельствах они тоже способствуют развитию нравственности; или когда Аммон (1766 – 1749) пытался использовать кантовское различие между чувственным и сверхчувственным миром для своего колеблющегося «рационального супранатурализма»; или когда Тьефтрунк, следуя моральной интерпретации христианских догм Кантом, утверждал не только возможность, но и высокую вероятность сверхъестественного откровения, но в конечном итоге осмелился основывать веру в него только на практической необходимости. Более последовательными кантианцами были в любом случае те, кто полностью воздерживался от этого предположения и относился к христианству и его основателю, со всем признанием их морально-религиозной ценности, как к чисто естественным, исторически объяснимым явлениям; кто поэтому не хотел мириться ни со сверхъестественными фактами в истории этой религии, ни со сверхъестественными учениями в ее вере, и был убежден, что они могут установить веру разума в ее чистоте только путем устранения этих посторонних примесей, как того требовал Кант. Эти кантовские рационалисты, такие как J. W. Schmid и Chr. E. Schmid, Якоб, Крюг, R?HR (1777 – 1848), Вегшейдер (1771 – GESENIUS (1785 – Paulus (1761 – 1851), D. Шульц (1779 – 1854) и многие другие, все они не дотягивают до блестящего изложения христианских доктрин Кантом; кроме того, они обычно делают большие уступки догматизму старой естественной теологии, чем последняя, не улучшая односторонность простой моральной религии более глубоким понятием религии; Наконец, они почти взяли на себя смелость переиначить библейские, особенно новозаветные, повествования и доктрины, неправильно оценив их историческую особенность, сделать их справедливыми для современного образования с помощью тех естественных объяснений чудес, классическим представителем которых является Павлус, и других искусственных средств. Но, несмотря на эти недостатки, они оказали величайшие услуги богословской науке, нравственному воспитанию и религиозному просвещению нашего народа; а кантовская философия, поскольку большинство немецких богословов в течение почти полувека исходили из нее, оказала самое прочное и далеко идущее влияние на общее образование.
Однако это доминирующее положение, как и следовало ожидать заранее, было достигнуто только после оживленной борьбы со школами и партиями, которые до сих пор привыкли задавать тон в немецкой философии. Среди более строгих вольфианцев особенно выделялись Эберхард в Галле и Й. К. Шваб в Штутгарте, которые возглавили борьбу своей школы против критических нововведений Канта. Первый основал для этой цели свой собственный журнал, одним из самых ревностных авторов которого, помимо Шваба, был Й. Г. Э. Маасс в Галле (1766 – 1823); Шваб доказал в статье, удостоенной премии Берлинской академии, через 15 лет после первого появления «Критики чистого разума», что метафизика со времен Вольфа не достигла никакого прогресса и нисколько не поколебала своей обоснованности. Однако люди эклектической философии эпохи Просвещения оценивали Канта по-разному. Тидеманн считал его слишком догматичным, Мендельсон и Й. А. Реймарус (2) – слишком скептичными; но его главными оппонентами с этой стороны были Мейнерс и Федер, которые также выступали против него со своим журналом. Адам Вейшаупт (1748 – 1830), известный основатель Ордена иллюминатов, присоединился к Федеру в споре с Кантом.
Более того, в «Всеобщей немецкой библиотеке» Николея и им самим в плоских сатирических романах позиция здравого смысла ревностно отстаивается против идеализма Канта, а затем против идеализма Фихте, за что неуклюжий человек был жестоко наказан обоими. Менее безоговорочной является оппозиция, поднятая против Канта Ульрихом в Йене (1746 – 1813), двумя швабскими философами Абелем (1751 – 1829) и Брастбергером (1754 – 1813), а также Борнтрегером; все эти люди принимали положения его системы, иногда в большей, иногда в меньшей степени, не будучи в состоянии решить перейти к ней полностью. Многие дискуссии были особенно спровоцированы теологическими и религиозно-философскими взглядами кенигсбергского философа. Друзья вольфианской метафизики защищали против него свою спекулятивную теологию, и особенно свои доказательства существования Бога, как это уже сделал Мендельсон в «Morgenstunden» в отношении онтологии; высказывания Канта о христианстве казались одним слишком либеральными, другим слишком мистическими. Теологи-супранатуралисты, такие как Шторр и Дж. Флатт в Тюбингене, Рейнгарт в Дрездене, Клейкер в Киле, имели много оговорок против его рационализма со своей точки зрения; отдельные фанатики среди католиков и протестантов даже призывали правительства принять меры против новой антихристианской философии; и эти агитации не только имели временный успех в некоторых небольших немецких государствах, но и сам Кант получил от преемника Фридриха Великого самый неблагосклонный указ о его «Религии в пределах чистого разума». Просвещенные же не знали, как смириться с тем, что философ придал разумный смысл догмам, которые они уже давно считали отброшенными. В этом отношении Кант ничем не отличался от Лессинга, который был до него. Но сопротивление старых школ как в теологической, так и в философской области было столь же мало способно остановить победоносное распространение его учения; и происходившие между ними и последователями Канта перемолвки имеют лишь умеренное научное значение, так как в них, в зависимости от характера вопроса, можно было обнаружить ту или иную слабость кантовского рассуждения, тот или иной пробел в системе, но ни новые точки зрения не могли быть представлены кантовской критике, ни значительный импульс не мог быть дан дальнейшему развитию ее результатов. Более глубокий интерес представляет оппозиция, которую выдвигает против Канта философия веры.
2. философия веры: Гаманн и Гердер
Ход мысли, которому было дано это имя, в соответствии с его собственным процессом, связан, с одной стороны, с критицизмом, а с другой – с философией Просвещения. С последней она разделяет неприятие вольфианской метафизики и вообще всей понятийной философии; с последней она восходит от медиативного познания, от демонстрации, к прямому знанию. Но это прямое знание не имеет характера «здравого смысла»: Это должен быть не интеллект, а более высокий вид убеждения, через который нам становятся известны самые важные истины; они должны открываться нам в чувстве, во внутреннем созерцании; и в связи с этим они также не должны быть одинаково доступны всем и без труда найдены каждым, чей разум не ослеплен никакими предрассудками, но в конце концов лишь небольшая община избранных, аристократия прекрасных душ и тонких духов, обладает полной восприимчивостью к ним. Истина не должна лежать на поверхности человеческого сознания, но должна быть открыта только углублением духа, возвращением в его внутреннюю сущность; мы не должны схватывать ее в понятиях, в которых все мыслят одинаково, но только в субъективных ощущениях и восприятиях; и именно по этой причине она должна принимать специфически индивидуальную форму в каждом человеке: Просвещение, которое хочет навязать всем людям одну форму понимания, опровергается так же решительно, как и кантовская мораль, которая ставит перед всеми одну и ту же моральную задачу и применяет к ним один и тот же критерий оценки.
Наиболее яркими представителями этой точки зрения являются три духовных человека, которые находились в тесном личном контакте друг с другом. Гаманн, Гердер и Якоби. Однако философское изложение и обоснование этой точки зрения мы должны искать предпочтительно у Якоби. Иоганн Георг Гаманн (1730 – 1788) в Кёнигсберге (3) был действительно необычайно важным человеком; однако восхищение, которое нередко выказывалось «северному магу» (как он себя называл), было тем сильнее, чем меньше человек понимал его оракулы. Энергичная чувственность, грубый реализм, страстно возбудимый нрав, чрезвычайно подвижное воображение, проницательная наблюдательность за собой и другими людьми, острый глаз на чужие недостатки сочетались в его оригинальной натуре с решительной, всесторонне положительной потребностью в вере, с твердым доверием к Богу, с теплым чувством дружбы, с живой восприимчивостью ко всему благородному, но также с придирчивой самооценкой, болезненной чувствительностью, безрассудным эгоизмом, с ипохондрическим самоистязанием, женским капризом, мягкой снисходительностью к самому себе, с произвольными идеями и чудесами всякого рода, и все это составляло весьма своеобразное целое. Такая личность могла оказывать сильное притяжение на самых разных людей, излучать светлые искры духа, давать множество отдельных подсказок. Однако характер Гаманна был слишком непостоянным, его мышление и писания слишком необузданными, чтобы иметь длительный научный эффект. Там, где требовались четкие понятия, он говорил иероглифами, которые часто были непонятны как ему самому, так и читателю; там, где только методичное исследование могло привести к цели, его воображение соединяло самые отдаленные вещи в странные, непредсказуемые скачки из хаоса материала, которым его снабдила неуемная любовь к чтению. В глубине своей натуры он питал глубокое отвращение ко всякому абстрактному мышлению; он противился не только разделению элементов, связанных в опыте и ощущениях, но и различию между ними, без которого невозможно научное объяснение явлений. Его любимой идеей является выдвинутое Бруно положение о совпадении всех противоположностей, тогда как он с юности был глубоко опечален принципами рационального мышления, которому он с юности противился, – положениям о противоречии и о достаточном основании, как говорил Якоби (4); но как на самом деле следует понимать это положение, он не только нигде не объяснил, но даже признался, что сам не знает. Философы, по его мнению, всегда давали истине рекомендательную грамоту, разъединяя то, что природа соединила. Поэтому у него от природы непреодолимое предубеждение против всякого методичного философствования; все философы, как он говорит, энтузиасты, все философские недоразумения – просто словесные распри, а самые тщательные исследования, такие как Кант, Лейбниц, Спиноза, надменно и пренебрежительно отвергаются как «схоластическая белиберда», «школьная лиса и пустословие». (5) Вместо понятий он предпочитает придерживаться восприятий; вместо доказательств – опыта, традиций, использования языка и того, что является общим для всех этих видов убеждений, – веры. Наш способ мышления основан на чувственных впечатлениях и ощущениях; ничто не приходит в наш разум, не побывав сначала в наших чувствах; поэтому основные составляющие нашего разума – это откровения и традиции. Из этого источника возникает первый язык, который Гаманн, в частичном противоречии с Гердером, верный своим эмпирическим предпосылкам, объявляет чем-то естественно усвоенным человеком (6); с его развитием, как он считает, совпадает и развитие непосредственно разума. «Все разговоры о разуме (пишет он Гердеру, т. VI, с. 365) – чистый ветер; язык – его органон и критерий! Традиция – второй элемент». «Все мышление основано на языке» (т. VII, стр. 9). Слова, говорит он (VII, 13), принадлежат одновременно чувственности и разуму, они являются как чистыми и эмпирическими впечатлениями, так и чистыми и эмпирическими понятиями; Кант также пытается (VII, 9f) вывести свои чистые впечатления, пространство и время, из фонетического и знакового языка; само это выведение, конечно, не только совершенно ошибочно само по себе, но и показывает, что у него вообще нет органа для основного вопроса кантовской трансцендентальной эстетики. Но если мы спросим, на чем основана сама уверенность опыта, из которой, как предполагается, вытекает все наше мышление, то Гаманн отсылает нас к вере или ощущению. Невежество Сократа, которое противопоставляется предполагаемому знанию философов как высшему, было, как он думает (II, 35), «ощущением», живым чувством того, от чего доктрины содержат лишь мертвый остов. Но то же самое он называет верой, когда добавляет: «В наше собственное существование и существование всех вещей помимо нас необходимо верить, и это не может быть установлено никаким другим способом». «То, во что верят, не нуждается в доказательстве, и утверждение может быть доказано, пусть даже без всяких сомнений, без того, чтобы этому верили». То, что он вернул вере честь, является, как он считает, также главной заслугой Давида Юма, которого он предпочитает Канту (I, 405. VI, 187). Поэтому решающая характеристика истины должна заключаться не в фактически проверяемых основаниях, а в живости и стойкости субъективного убеждения. Это, однако, может в равной степени присутствовать в убеждениях любого рода и содержания; поэтому Гаманн не только ставит метафизические заключения в один ряд с чувственным опытом, когда, например, заявляет о бессмертии (VII, 419f.). Бессмертие (VII, 419f), не нуждается в надуманных доказательствах, для него это res facti; но он требует такой же прямой достоверности и для позитивных догм, от которых его реалистическое мышление, повсюду обращенное к осязаемому и конкретному, отказывается тем меньше, чем больше он нуждается в этой поддержке и для своей душевной жизни, ввиду разнообразных страданий, в которых он, не без собственной вины, находился всю жизнь (7). Откровение Бога в Писании для него столь же очевидно, как и откровение в природе, и разум может возражать против последнего не больше, чем против первого. Высшее существо, как он говорит, в реальном сознании является индивидуумом, которого нельзя мыслить в соответствии ни с каким другим критерием, кроме того, который он сам себе присваивает, а не в соответствии с произвольными предпосылками нашего самомнения и любопытного невежества. Разум дан не для того, чтобы сделать нас мудрыми, а для того, чтобы уличить нас в неразумии, усугубить наши ошибки. Поэтому вполне естественно, что открытая истина оскверняет разум. «Ложь и нравоучения, – говорит Гаманн, – должны быть правдоподобными, гипотезами и баснями, но не истинами и фундаментальными доктринами нашей веры» (8). Но это тоже утвердительно, и каким бы искренним ни было неприятие Гаманном Просвещения и его теизма (9), невозможно, чтобы человек, столь субъективный, столь полностью зависимый от своих чувств, своих индивидуальных вдохновений и идей, всерьез говорил о догмах, которые должны служить именно для того, чтобы исключить индивидуальное усмотрение в религии; и действительно, он также говорит (VII, 58): Догматика и церковное право относятся только к общественным институтам образования и управления; но эти видимые институты не являются ни религией, ни мудростью, нисходящей свыше, но (согласно Якобусу 3,15) земными, человеческими и дьявольскими; о нем свидетельствует Якоби (Werke III, 505): истинная вера для него – ипостась, все остальное он называет «священными экскрементами великого ламы»; всякая попытка привить истину другим кажется ему тщетной, и поэтому жажда чудес у Лаватера также вызывает у него горькую неприязнь. В религии тоже все должно быть индивидуально, истину нужно не доказывать, а только чувствовать.
Легко понять, что человек такого характера не мог иметь никакого вкуса к такому строго методическому исследованию, требующему самого пристального разбора понятий, как Кр. д. р. КАНТа. V., не сумел приобрести к этому никакого вкуса, понять нетрудно. В его комментариях к этой работе (10) наиболее существенным фактическим возражением против нее является замечание: если чувственность и рассудок, как два ствола человеческого познания, происходят из общего корня, то кантовское их разделение насильственно и противоестественно. Это замечание действительно попадает в точку, в которой некоторые ученики Канта также находили необходимым существенное дополнение его положений. Только Гаманн упускает из виду, что для научного исследования способности познания – поначалу, во всяком случае, – было необходимо резкое разграничение и раздельное рассмотрение перцептивной и интеллектуальной деятельности, и что при этом можно было прийти к очень важным результатам, даже если бы не удалось точнее определить общий корень чувственности и понимания; сам он, во всяком случае, не делал никаких попыток к такому исследованию.
Его возражения против Мендельсона, который в своем Иерусалиме требовал отделения церкви от государства и независимости гражданских прав от религиозного исповедания, аналогичны и основаны на рассуждениях о естественном праве, в которых он в основном следовал за Вольфом. Гаманн отрицает (11) отделение поступков от мнений, государства от церкви; но он также отрицает обоснованное различие между правом и моралью, гражданской и религиозной жизнью, допуская толерантность эпохи Просвещения и ее великого короля. Он сопротивляется не только поверхностному и поспешному, но и истинному и оправданному в господствующем образе мышления; он отвергает не только абстракции понимания, но вместе с ними слишком часто и рациональное созерцание вещей в целом.
Гораздо более степенным и достойным мыслителем был Иоганн Готфрид Гердер (1744 – 1803). Он не зря просиживал у ног Канта (12), он был приобщен им не только к философии Лейбница-Вольфа, но и к учениям Кеплера и Ньютона, Юма и Руссо; у него перед глазами был непревзойденный образец острого, методичного, независимого мыслителя. Но как бы ни отрицалась в его работах школа, через которую он прошел, чувство и склонность к философии не были в нем настолько чисты и энергичны, чтобы можно было ожидать от него выдающихся достижений именно в этой области. Гердер был чрезвычайно богатым и разносторонне образованным духом; его идеалом было человечество, гармоничное развитие и действие всех сил, заложенных в человеческой природе; все, что интересует человека и имеет отношение к его благополучию, вызывает его живое участие, стимулирует его жажду знаний, его размышления, его литературную и поэтическую деятельность. Но поскольку он хочет быть слишком многим сразу: философом и поэтом, теологом и историком, проповедником и литератором, он не является ни одним из них в том виде, в каком мог бы быть сам по себе. Он достиг значительных успехов в самых разных областях, дал импульсы во всех направлениях, разбросал плодотворные мысли; но он не только не достиг высшего уровня ни в одной области, но и не сохранил почти ни одной из них в чистоте, и этим смешением различных задач он нанес немалый вред ценности и эффекту своих трудов. И все же он так мало осознает этот недостаток, что считает себя вправе возвышаться над другими именно потому, что они целы, а он – лишь наполовину. Он смотрит свысока на Гёте, потому что он только поэт, и на Канта, потому что он намерен быть только философом; один для него слишком абстрактен, другой слишком легкомыслен; то, что они были бы меньше, если бы хотели быть больше, он для себя не уяснил. Однако, помимо других его талантов, в нем нельзя отрицать философскую жилку. Он не хочет останавливаться на поверхности вещей, у него есть потребность объяснять явления из их причин, и он достаточно независим в своем мышлении, чтобы не успокаиваться школьными формулами, не отмахиваться от слов, которым не соответствует определенная идея, от понятий, которым не соответствует взгляд. Насколько широки его знания, настолько же разнообразен интерес его мысли; его труды полны метких восприятий и стимулирующих замечаний, а в таких предметах, как философия истории и исследование происхождения языка, которые импонируют его образу мышления, нельзя отказать ему в заслуге, что их изучение обязано ему существенным прогрессом. Но как философу ему не хватает строгости метода и тщательности исследования. Он умеет осветить каждый вопрос с разных сторон; он плодовит на различные комбинации, для которых его богатые знания и живое воображение предлагают соответствующие средства, и таким образом ему нередко удается получить от своего предмета новые, часто удивительные точки зрения. Но у него не хватает терпения вести расследование шаг за шагом, неуклонно проводить аргументацию через все ее средние звенья и внимательно изучать ее в деталях; у него не хватает самоотречения, чтобы ограничиться теми пунктами, обсуждать которые ему надлежит в первую очередь, и отгонять от себя другие мысли, наплывающие со всех сторон. Он чувствует и понимает конкретные явления и исторические процессы; только сила абстракции не поспевает за живостью восприятия: расчленение данности, которым обусловлено всякое научное ее понимание, расчленение составного на элементы – не его дело, и когда за это берутся другие, он жалуется, что они подменяют реальность метафизической поэзией. В более конкретных областях он дает нам много проницательных и убедительных аргументов; но когда речь заходит о принципиальных философских вопросах, мы сразу же наталкиваемся на барьер его интеллектуального таланта, и он является слишком слабым систематическим мыслителем, чтобы привести определения, возникшие у него из различных точек, в последовательное согласие друг с другом. Таким образом, мы находим у него, конечно, философскую потребность и философские взгляды; но мы не находим философии, созданной по единому лекалу, четко и решительно реализованной точки зрения. В этом отношении ГЕРДЕР явно уступает не только Канту или Фихте, но и ЯКОБИ, которого он превосходит по разносторонности.
Свое первое философское образование ГЕРДЕР получил, как уже отмечалось, в школе Лейбница, к которой в то время еще принадлежал его учитель Кант; кроме того, он рано познакомился с английскими философами, а именно с Бэконом и Шафтесбери, с Юмом и Руссо; Впоследствии (но только с 1783 года) он близко сошелся с Якоби, а также изучал систему Спинозы, на которую опять-таки последний направил его внимание, с живым участием, в то время как кантовская критика вызывала у него глубокое отвращение, и даже в последние годы жизни его вместе с Кантом, с раздражением, усиленным личной чувствительностью, он выступал против нее в тоне, который нередко был надменно-пренебрежительным и прямо насмешливым. Его собственная точка зрения характеризуется прежде всего его взглядом на природу и условия познания, который он уже высказал ранее и затем подробно защищал против Канта в своей «Метакритике» (1799). Конечно, не следует ожидать от него эпистемологии, единодушной в самой себе и опирающейся на твердые принципы. Прежде всего, он исповедовал философский эмпиризм.
Он говорит, что разум не является врожденным в человеке, а должен быть усвоен им; это «не что иное, как нечто услышанное, усвоенная пропорция и направление идей и сил, к которым человек был сформирован в соответствии со своей организацией и образом жизни»; наука о разуме, метафизика, является лишь «регистром имен, стоящих за наблюдениями опыта» (13). Он утверждает против Канта, что не существует априорных понятий, независимых от опыта; функция рассудка состоит лишь в том, чтобы распознать то, что есть. Он считает, что все те идеи, априорное происхождение которых пытался доказать Кант, – идеи пространства, времени, причины и следствия – являются понятиями опыта. Он обижается на то, что Кант ставит восприимчивость и спонтанность, интуицию и понятия рядом, как два ствола человеческого познания, не прослеживая их общего корня; и тем самым он затрагивает бесспорный пробел в системе Канта. Но то, что он сам сделал для устранения этого недостатка, весьма недостаточно. Наша природа, говорит он (14), сколько бы сил мы ей ни приписывали, знает только одну главную силу становления в себе, по великому закону: «Один во многих». Каждое ощущение – это ощущение, присвоение одного из многих. Не иначе обстоит дело и с мышлением: в мышлении душа непрерывно создает Единое из многих, как внутренний Дух постигает таковое в ощущениях; это та же сила природы, которая проявляет себя темнее здесь, ярче и активнее там, то в индивидуальной, то снова в согласованной деятельности. Таким образом, мы не узнаем ничего более точного о происхождении наших идей. Эпистемологические аргументы Гердера, однако, все время движутся в той же неопределенности. Проникновенные исследования Кантом основных форм использования разума он называет «бесплодными пустынями, полными пустых рождений мозга в самом претенциозном словесном тумане»; но его собственное изложение «основных понятий и принципов распознающего разума» лишено более строгой научной установки, и в качестве самого общего принципа он представляет бессмысленное предложение: «Человеческий разум распознает то, что для него распознаваемо, тем способом, которым это для него распознаваемо, в соответствии с его природой и его органами». Его основной идеей является утверждение, в котором он прямо следует Якоби (15): целью наших мыслей должно быть только раскрытие существования; но как мы должны начать, чтобы достичь этой цели, об этом он не знает ничего приемлемого, чтобы сказать нам, главным образом в связи с тем, что он избегает любого более глубокого анализа умственной деятельности и всегда уходит от нее к неопределенным понятиям ощущения, становления единого целого и т. д. Например, вместо внутренних процессов, посредством которых формируются наши идеи, он предпочитает их внешнее выражение в языке; а попытка объяснить происхождение языка естественным путем без вмешательства высших сил, как он уже сделал в своем премированном сочинении 1770 года (16), богата плодотворными замечаниями и заслуживает тем большего признания, если учесть состояние лингвистики в то время и ограниченность доступного ему лингвистического поля. Но от философского исследования деятельности воображения и мышления он тем самым скорее отвлекается, нежели продвигается. Если мы также зададимся вопросом об истинности наших идей, то и здесь он не приходит к удовлетворительному выводу. С одной стороны, Гердер утверждает: поскольку язык выражает не вещи, а только имена, то и человеческий разум не познает вещи, а только имеет определенные их характеристики, а они сами опять-таки облекаются в произвольные звуки, с которыми мы считаемся; поэтому мы ничего не знаем о внутреннем строении вещей, о сущности сил, о связи между причиной и следствием и т. д. (17) С другой стороны, он приписывает рассудку способность распознавать своим кратким словом силы, существование, качества, связь вещей; а вместе с существованием, по его мнению, непосредственно дано также первобытие, первозданная основа, первозданная сила, первозданная мера, одним словом, Божество (18); так что поэтому скептицизм, которого не может полностью избежать даже его эмпиризм, в конце концов снова сменяется прямой верой в разум.
В своих теологических и метафизических взглядах Гердер идет еще дальше за пределы эмпиризма. Размышления о Спинозе (19) являются изложением воззрения на мир, основной источник которого лежит безошибочно в системе Лейбница, только, с одной стороны, Гердер заменяет предустановленную гармонию всех существ реальным взаимодействием их, как это делали другие лейбницианцы, и особенно его учитель Кант, а с другой стороны, он преимущественно сохраняет из метафизики Лейбница те положения, в которых она сближается со спинозизмом. Согласно этому представлению, Божество есть единая вечная элементарная сила, которая, согласно вечным законам своего бытия, мыслит, действует и является самой совершенной. Эта первозданная сила, в которой соединены мощь, мудрость и благость, не находится вне мира и не была прежде мира, поскольку вечно действующая сила никогда не может быть праздной. Она проявляет себя в бесконечных силах бесконечными способами; то, что она порождает, является ее живым отпечатком, вся природа – это царство живых сил, в котором ничто не стоит само по себе, ничто не является без причины, ничто не является без следствия, ничто не является без организации; в нем нет смерти, а есть только трансформация, нет покоя, нет застоя, нет зла; даже ограничения и недостатки существ служат совершенству целого и прогрессу всех сил. Однако это присутствие Бога в мире не умаляет его самосознательного мышления и деятельности; Гердер, конечно, находит понятие личности неуместным для Бога, но то, что он есть высшее Я, высшая мудрость, благость и любовь, он утверждает совершенно определенно; и если он порицает тех, кто исследует индивидуальные цели Бога в творении, вместо того чтобы исследовать внутреннюю природу вещи в соответствии с неизменными вечными законами, он, тем не менее, настолько мало выступает против телеологического взгляда на саму природу, что целеустремленная божественная мудрость скорее составляет одно из оснований всего его взгляда на природу и историю. (20) В этом отношении он дистанцируется от Спинозы, как бы мало он ни хотел это признать, тем значением, которое он придает индивидуальности. Это одно из его любимых положений, что каждое существо имеет свой собственный мир и равно только самому себе, что этот принцип индивидуации не одинаково действует во всех существах, но что каждое из них тем более индивидуально, чем больше в нем жизни и реальности; что поэтому именно в человеке глубочайшая причина существования индивидуальна, что он приходит в мир менее всего как пустая скрижаль, но скорее несет в себе все, чем он станет, в зародыше своего существа уже в детстве. (21) Эта значимость индивидуального существования выражается также в том значении, которое Гердер придает не только продолжению каждого человека в истории, но и продолжению личности после смерти. В одном месте он заявляет, что веру в это невозможно доказать; в других местах, однако, он доказывает это отчасти метафизически, исходя из положения о том, что ни одна сила не погибает, отчасти телеологически, исходя из необходимости единого завершения развития человеческого духа. Но поскольку каждая сила имеет свой орган, то и человеческая душа после смерти должна пройти через ряд новых тел и местожительств. (22) В этом, как и в своей концепции Бога и взгляде на природу, ГЕРДЕР наиболее непосредственно следует за Лессингом и принятой им философией Лейбница.
В том же духе он относится к философии истории, которая является предметом его самой важной научной работы (23). Ведущие идеи его взгляда на историю заключаются в его рассуждениях о закономерности, своеобразии и прогрессе исторического развития. В отличие от тех, кто видит в истории лишь произвольные действия людей и, кроме того, возможно, столь же произвольное направление ее божеством, Гердер показывает, что она возникает, как и все остальное, из определенных естественных условий по неизменным законам; он прослеживает эти условия до космических условий и геологических образований нашей планеты; главную причину преимущества человека перед животными он находит в строении его организма и прежде всего в его вертикальном положении, самом сильном и незаменимом рычаге всякого развития разума и культуры в языке, который, в свою очередь, зависит в первую очередь от построения орудий речи. В своих предположениях о происхождении и развитии нашей расы он следует истории Бытия, которую он считает самым древним документом о человеческом роде, но которую он, естественно, вынужден очень произвольно перетолковывать, чтобы извлечь из мифа, который он сам признает таковым, основные черты того, что он считает исторической традицией. – Но именно потому, что развитие человечества является полностью естественным, оно также является полностью индивидуальным. Это, как говорит Гердер (24), основной закон истории, «что везде на нашей земле становится то, что может стать на ней, частично в соответствии с ситуацией и потребностями места, частично в соответствии с обстоятельствами и возможностями времени, частично в соответствии с врожденным или порождающим характером народов»; и ни одно другое положение он не внушает своим читателям с большей силой, чем то, что каждый народ и каждая эпоха хотят быть понятыми в своем своеобразии, каждый хорош по-своему и несет в себе цель своего существования. Этим предложением он в духе Лейбница и Лессинга противостоит эгалитаризму Просвещения, которое умело лишь применять требования собственного образования ко всем историческим явлениям. – Однако в своем конечном результате, как особенно подчеркивает Гердер, все многообразие интеллектуального развития человечества стремится к одной и той же цели. Воспитание к человечности – это великая задача каждой человеческой жизни, общее естественное предназначение нашей расы. Вся наша природа, как физическая, так и духовная, предназначена для этой цели; в нашем распоряжении все средства для ее достижения; поэтому человечество не только проходит через различные стадии культуры в различных изменениях, но и, рассматриваемое в целом, несмотря на все частичные регрессы и обходы, продвигается вперед на своем пути, и как всякая взаимосвязь сил и форм в мире есть прогресс, так и среди людей, согласно внутренним законам их природы, разум и справедливость должны с течением времени завоевывать все большее место и способствовать прочному человечеству. Даже конфликт наших сил, даже наши ошибки должны способствовать возрастающему господству человечества, и Гердер, подобно Лессингу и Канту, не может больше не надеяться на то, что и человечество когда-нибудь достигнет этой цели, что магнитная игла наших усилий после всех ошибок и колебаний найдет свой полюс.
Для Гердера религия совпадает с человечеством по своей сути. Религия – это высшая человечность, но именно она принесла народам первую культуру и науку; религиозное ощущение невидимых сил является условием всякого высшего применения разума. Но всякая религия изначально распространяется традицией, а значит, символами; когда жрецы потеряли смысл символов, они стали слугами суеверия. В качестве первого истока религии Гердер, помимо изначальной предрасположенности человека, называет божественное воспитание, о котором, однако, он не говорит нам, как мы должны думать об этом более подробно. Чем выше стоит религия, тем больше она сливается с человечеством: религия Христа, по мнению Гердера, который в этом следует за Лессингом, была ничем иным и не хотела быть ничем иным, как самой настоящей человечностью; даже если с течением времени она во многом стала «религией Христа», «бездумным поклонением его личности и его кресту». Проследить путь от этого к тому, вернуться от позитивной религии к религии, от конкретного к общечеловеческому, от догмы к морали – вот задача, которую Гердер также всеми силами преследовал в своих теологических работах (25).
Если же он не всегда справедливо относится к христианскому прошлому и не остается верен принципу ценить каждое явление в его своеобразии, если он модернизирует библейское христианство, переосмысливая его, и не имеет настоящего понимания средневекового христианства, то это тем более не может нас удивить, поскольку в этом он отчасти лишь следует общему образу мыслей своего времени, а отчасти недостаточно свободен как теолог, чтобы прийти к тщательно непредвзятому взгляду на позитивную религию.
В своем «Каллигоне» (1800) Гердер посвятил подробное исследование созерцанию прекрасного. В этом сочинении он противостоит «Критике способности суждения» Канта примерно так же, как в своей «Метакритике» «Критике чистого разума». Однако здесь я тем более не могу углубляться в это обсуждение, поскольку основной недостаток философствования ГЕРДЕРА – то, что результаты не получены с помощью строгой научной процедуры, что отдельные, часто весьма меткие наблюдения и мысли не связаны никакими фиксированными принципами, – вызывает в нем особую тревогу.
Примечания
1) Исключение делает TETENS; ср. стр. 262. Еще раньше оппонент Канта, превосходный еврейский врач MARCUS HERZ, в своих «Betrachtungen aus der spekulativen Weltweisheit» (1771) занял позицию кантовской диссертации.
2) Сын Вольфиана, о котором говорилось выше.
3) Где он занимал подчиненную и довольно бездеятельную должность управляющего упаковочным двором.
4) Ср. сочинения Гаманна под редакцией ROTH, т. VI, с. 183, 301; т. IV, с. 146; т. VII, с. 414. сочинения Якоби т. III, с. 503f. В дальнейшем цитаты в тексте относятся к вышеупомянутому изданию работ Гаманна.
5) HAMANN’s Werke, vol. VI, page 228; vol. VII, page 360; vol. VI, page 183; vol. VII, pages 6f, 243, 314f; vol. I, pages 438, 491.
6) HAMANN, Werke IV, стр. 47f, 88f; VI, 143; II f. Однако и здесь нет четкого определения.
7) Когда во время пребывания в Лондоне (1757) он впал в крайнее расстройство из-за своего беспорядочного образа жизни и безответственного пренебрежения делами, которые ему доверили друзья, Библия стала его утешением (как он сам рассказывает в любопытных «Размышлениях о ходе моей жизни» I, стр. 149f), и с тех пор он придерживался позитивной религии, не делая, однако, по этой причине насилия над своими капризными наклонностями.
8) HAMANN, Werke VII, стр. 418, 43; I, стр. 55, 405; II, стр. 101.