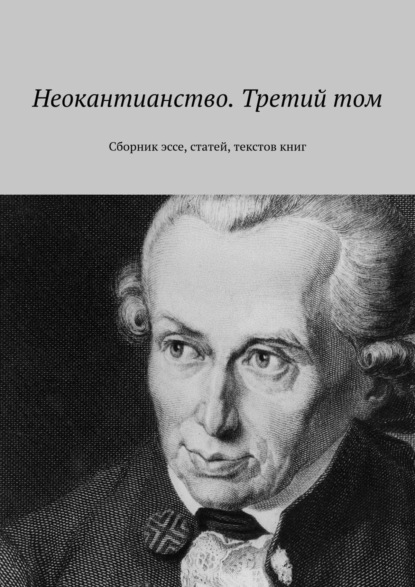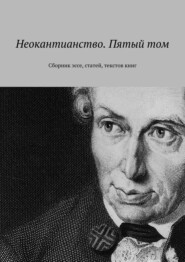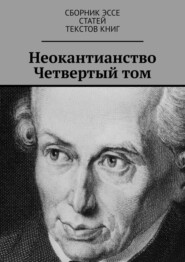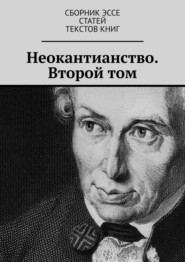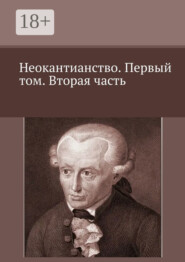По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неокантианство. Третий том. Сборник эссе, статей, текстов книг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эта гармония с естественными науками, однако, не защитила Канта от порицания со стороны философов. Однако, помимо того, что мы здесь кратко изложили как ядро его учения, в нем можно найти и многое другое, против чего можно выдвинуть вполне обоснованные возражения; и Гербарт, конечно, не совсем неправ, когда говорит (4), что в отношении телеологии Кант не то чтобы решительно заблуждается, но испытывает неуверенность в неустойчивости своих мыслей. Конечно, ему принадлежат такие предложения, как «что для того, чтобы понять, что вещь возможна только как цель, необходимо, чтобы ее форма не была возможна по простым законам природы» или «что природа организует себя сама». Но в своей критике Гербарт также поступает несправедливо по отношению к Канту. Мы не можем, например, обнаружить, что Кант «относится к телеологии с презрением»; ни из оценки телеологического доказательства в «Критике чистого разума», ни из «Критики способности суждения» мы не можем этого прочесть. Скорее, по нашему мнению, КАНТ ценит их примерно так же высоко, как и ГЕРБАРТ, только последний дает нам понять, что признание законов природы основано на вероятности, которая не просто субъективна, а объективно достоверна. Должен признаться, что разница между Кантом и Гербартом в отношении оценки ценности телеологии казалась мне в прошлом более значительной, чем сейчас. Однако Гербарт явно ошибается, когда в качестве выражения кантовской антиномии власти суждения объединяет пропозицию: «Все производство материальных вещей возможно по чисто механическим законам» с антитезой: «Некоторые из их производств невозможны по чисто механическим законам». У Канта (5) антиномия выражена достаточно четко в пропозиции: «Все производство материальных вещей и их форм должно оцениваться как возможное по чисто механическим законам» и ее антитезе: «Некоторые из продуктов материальной природы не могут оцениваться как возможные по чисто механическим законам». С другой стороны, пропозиции, которые цитирует Гербарт, это те, в которых Кант говорит, что если вышеупомянутые регулятивные принципы исследования преобразовать в конститутивные принципы возможности самих объектов, то они были бы следующими. Он добавляет, что тогда речь шла бы об антиномии, но не о силе суждения, а о противоречии в законе разума; но разум не мог бы доказать ни один из этих принципов. Наконец, он не находит, что противоположные предложения, которые он выставляет как максимы силы суждения, вообще противоречат истине, даже при ближайшем рассмотрении, и разрешает антиномию, объявляя их псевдопротиворечием (6). – Ограничение Кантом понятия цели регулятивным использованием выявило особое противоречие не только с Гербартом, но и со всеми другими позднейшими философами. Эта оппозиция основана отчасти на уже критиковавшемся недоразумении, будто для Канта цель была «не принципом объяснения, а лишь принципом удобного обзора» (7), а отчасти на определенном намерении классифицировать это понятие метафизики и через него, в смысле Аристотеля, дополнить понятие действующей причины, тем самым окончательно придя к спекулятивному теизму. Это намерение благонамеренно, но есть ли у него необходимые средства для достижения столь высокой цели? Чтобы найти ответ на этот вопрос, обратимся к философу, который, подобно Канту и Гербарту, заканчивает признанием, что «нам не дано развить сущность Бога с той логической необходимостью, с которой дух способен проникнуть в конечные вещи», к Тренделенбургу (8), который, тем не менее, хорошо зная все факты, относящиеся к понятию цели, и пытаясь основываться именно на нем, находит в этом понятии не только существенный элемент, но практически краеугольный камень метафизики, и сурово упрекает Гербарта (9) в том, что он не исследовал и не проработал понятие цели как понятие знания подобно понятиям бытия и изменения, субстанциональности и причинности, материи и «я».
Давайте сначала рассмотрим, что, по мнению Тренделенбурга, он может извлечь из фактов. При объяснении происхождения организмов, утверждает он (10), активная причина оказывается бессильной; творческая природа так тщательно ограждает свою мастерскую, как будто хочет отсечь возможность придумать объяснение от активной причины. Глаз сформировался во тьме утробы матери, чтобы родиться для соответствия свету, и то же самое было верно в отношении других чувств; не свет возбудил лицо, не звук – ухо, не стихия, в которой существо должно было двигаться, – орудия движения; но органы были там для этих явлений; органы попали со своей активностью под действующую причину, но со своим целеполагающим построением под закон своего собственного следствия. Мысль», то есть задуманная мысль, лежит здесь как первое, что лежит в основе явления; она находится посреди вещей и предполагает их, как они предполагают ее; когда она строит и тем самым достигает цели, она в то же время является действующей причиной, она едина с действующими причинами и направляет их так, что они служат ей. «Это взаимопроникновение цели и силы, мышления и бытия» – так говорится на странице 31 – «является, таким образом, как простым фактом, так и предпосылкой всякого понимания его. Это взаимопроникновение наиболее ярко проявляется в семени. Семя – это уже сформированное целое. Когда его оплодотворяют и предоставляют естественным стимулам, оно развивается. В развитии, от зародыша до цветка, управляющая связующая цель и присваивающая движущая сила – одно и то же. Может показаться, что активна только действующая причина, поскольку развитие, как кажется, происходит вслепую, как движение; но развитие происходит изнутри и утверждает цель. Это сила на службе цели». Мы не хотим спорить с Тренделенбургом о том, так ли уж несомненно, как он предполагает, что глаз формируется в утробе матери для того, чтобы в будущем видеть, ухо – для того, чтобы слышать, и пр. и не является ли мнение, довольствующееся утверждением, что глаз видит, а ухо слышит, поскольку и после того, как оно так сформировалось при образовании плода, что способно видеть и слышать соответственно, настолько невозможным, что не заслуживает опровержения; мы, во всяком случае, признаем за ним, что первое мнение является более правильным, более вероятным. Но он утверждает слишком много, когда называет здесь активную причину бессильной; согласно его собственному изложению в последующем, ее одной недостаточно. Мысль», т.е. конечная причина, должна «направлять» causa efficiens, а последняя «служить» ей как средство; и наоборот, одна лишь мысль была бы «бессильна» без действующей причины. Но если признать, что в развитии семени, кроме физических и химических сил, присутствует еще что-то, что направляет или использует эти силы таким образом, что в результате их действия или сотрудничества образуется органическое тело, то можно ли это назвать «мыслью» без лишних слов? Конечно, нельзя, по крайней мере в собственном смысле, приписывать семени такую мысль, сознательную идею, а тем более волю, благодаря которой оно стремилось бы реализовать эту мысль. Если в оплодотворенном семени и есть стремление к развитию в определенной форме, то это стремление, как и цель, к которой оно направлено, конечно, не является сознательным, это не мысль, это не воля; его можно рассматривать только как слепой импульс и, следовательно, как естественную силу. Правда, мы не имеем в виду противопоставлять друг другу природные и духовные силы, как внешние и внутренние, ибо для нас все силы – это внутренние состояния простых реальностей. Но не все такие состояния сознательны во всех реальных существах, и скрытые напряжения, которые мы должны предполагать там, где имеет место равновесие механических или химических сил, безусловно, являются бессознательными состояниями материальных элементов. Мы также не можем думать об этих инстинктах формирования, скрытых в неоплодотворенном семени, иначе, чем как об аналоге сил, которые сохраняют равновесие, поэтому не приходят во внешнее проявление, но существуют как связанное стремление к движению, пока их равновесие не будет устранено внешним воздействием, и их действенность теперь предопределяет себя в движения, которые следуют за равновесием, которое было устранено, подобно тому, как колебания маятника, первоначально поддерживаемого в наклонном положении точкой сопротивления, после устранения сопротивления предопределены силой тяжести, длиной маятника, величиной угла, который он составляет с вертикальной линией в исходном положении, и т. д. и т. п. и т. д. Можно считать, что развитие растения из семени предопределено заранее сформированными внутренними условиями семени, хотя, конечно, внешние воздействия должны быть сопутствующими. Однако говорить о мысли, определяющей форму, – это прыжок, который ни в коей мере не оправдан тем, что существует на самом деле. Разумеется, эти заранее сформированные и предопределяющие внутренние условия сами требуют объяснения, ибо с ними возникает лишь новая проблема. Это объяснение должно было бы сначала зайти так далеко, чтобы доказать, что и почему в семени, произведенном в результате развития растения, повторяются те же самые внутренние состояния, из которых это развитие исходило. Это решило бы проблему размножения, но еще не проблему первого появления вида, и перспективы ее решения лежат на гораздо более неизмеримом расстоянии, чем перспективы проблемы размножения. Если, однако, по причинам, изложенным выше, мы должны в конце концов утешиться здесь общей мыслью, что вся целеустремленность, проявляющаяся в формировании и развитии организмов, в последней инстанции должна быть прослежена до духовного начала и его мышления и воли, то есть до волевых божественных мыслей, эти мысли, тем не менее, ни в коем случае не имманентны организмам, не присутствуют и не действуют в них непосредственным образом; ибо мы не можем приписать мышление и волю самой бессознательной материи, будь она органической или неорганической. Таким образом, в природе полностью отсутствует предмет (11), данный в опыте, из которого могло бы исходить это мышление и желание, и по этой самой причине цель как цель ни в коем случае не является непосредственно данным понятием знания, подобно причинности и субстанциальности. Фактом, говоря словами Гербарта, является то, что многое в природе «приходит к концу», но не то, что оно «исходит из цели, которая была ранее обдумана, завещана и исполнена действенным духом». Именно поэтому для Гербарта понятие цели – это не то, с чем может иметь дело метафизика. Мы вряд ли можем поверить, что, по мнению Тренделенбурга, органическая материя как таковая мыслит и волит, что у каждого органического тела есть душа, которая строит и поддерживает его; но его мнение, похоже, состоит в том, что это дух Бога, распространяющийся через природу, чье мышление и воля непосредственно производят эти формы, или, скорее, что вся природа погружена в Бога. Ведь последний раздел его логических изысканий завершается предложением: «Акт божественного познания является субстанцией бытия всех вещей». «Таким образом, принцип пантеизма полностью подтверждается, ибо Бог – не только имманентный и действенный принцип мира, но и единственная субстанция мира. И даже если сначала предполагается, что только множественность божественных мыслей субстанциально лежит в основе множественности вещей, навязывание «определения множественности реального из единства мысли» не оставляет сомнений в том, что для Тренделенбурга все в конечном итоге упирается в единую субстанцию. Для нас же требование вывести бытие из мышления, многое из единого, является невыполнимым, поскольку оно непоследовательно, о чем мы уже не раз говорили.
Из всего наблюдения за природой, как за целым, так и за отдельным человеком, мы не в состоянии вывести полное понятие о цели. Она раскрывается только в сознании нашего собственного мышления и целенаправленного действия. Здесь мы ясно видим различие и вместе с тем связь между causa finalis и causa efficiens. Две последовательности эффектов соединяются вместе. Одна череда психических эффектов исходит из намеренной мысли о цели. Через мысленное воспроизведение, комбинации и размышления это приводит к изобретению и выбору средств, которые представляются подходящими для внешней реализации основной идеи. Желание последнего ведет к желанию средств как условий его осуществления, и господство нашей воли над движениями нашего тела производит теперь вторую серию физических эффектов в действиях, которые, если они соответствуют выбранным средствам, а те – цели, основной мысли, завершаются достижением намеренно желаемой цели. Все эти эффекты, от первого психического до последнего физического, основаны от одной конечности к другой на causae efficientes, и специфическое или даже родовое различие между ними и конечной причиной, целью, нигде не мыслится, хотя психические и физические причинности существенно различны; но нет оснований считать только последние causae efficientes. Causa finalis называется только такая психическая causa efficiens, которая в форме волевой основной мысли приводит в движение физические causae efficiens через промежуточные звенья психических эффектов (целесообразные средства) таким образом, что их конечный эффект становится адекватным содержанию этой основной мысли, которая, как волевая, является первой и исходной causa efficiens всего хода взаимосвязанных эффектов. Поэтому основная мысль, цель, не сразу овладевает физическими причинами, через взаимодействие которых она материально реализует себя, но сначала, посредством психического воздействия, она вызывает мысли средств, которые, в свою очередь, лежат в ней ни явно, ни неявно, ни как единицы в числе, ни как доли площади в целом. Ни множественность только задуманных средств, ни множественность средств, приведенных в действие, не вытекает из единства основополагающей мысли. – Если теперь попытаться сделать природные цели понятными как намеренно волевые, то не остается ничего другого, как гипотетически взять за основу аналог человеческой личности; таким образом, возникает спекулятивная теология природы. В одном из предыдущих трудов (12) я пытался развить эту мысль дальше, но я очень далек от мысли, что подлинно объективное знание о природе Бога может быть получено таким путем (а поскольку я не считаю возможным никакой другой путь, то и вообще не считаю). Ибо если аналогия везде дает лишь весьма неуверенный ориентир для расширения нашего знания, то здесь вывод тем более смелый, что богоподобие человека не должно искушать нас представить высшее существо слишком похожим на человека, хотя всякая попытка выйти за пределы нашей собственной духовно-телесной природы рискует привести либо к негативному, пустому и заумному, либо к фантастическому и авантюрному. Здесь нельзя получить больше, чем способ воображения, достаточный для практико-религиозных нужд и всегда остающийся субъективным, никогда нельзя получить четко определенную теоретически надежную концепцию, на которой можно было бы построить метафизическую конструкцию, дополняющую естественные науки.
Теперь, когда я перешел к религиозному значению понятия цели, позвольте мне взять на себя смелость, чтобы пролить больше света на отношение философии Гербарта к религии, ответить на некоторые возражения, которые уважаемый соредактор этого журнала, г-н Ульрици, направил против нескольких пунктов моей «Основной доктрины философии религии», опубликованной в 1840 году (13).
Прежде всего, это сильное недоразумение, если Ульрики думает (стр. 270), что понятие религии является для меня данным в том же смысле, в каком, согласно Гербарту, даны понятия, над которыми должна работать метафизика. Я говорю не более того, что религия есть факт, который философия не производит, а находит, и тем самым не только говорю то же самое, что не раз говорил Гербарт, но даже признает Иоанн Готтлиб Фихте, как я доказал (стр. 22 моего сочинения). Кроме того, совершенно ошибочно утверждение, что, по моему мнению, философия должна стремиться к преобразованию религии и ее понятия; я утверждал только то, что религия не дана как факт опыта в том смысле, что философия должна только постигать ее, но что философия должна оставить за собой право критики, которая может привести к необходимому преобразованию; я хотел сохранить для философии по отношению к позитивной доктрине религии независимость суждения и реконструкции, а не сделать ее par excellence подвластной последней. То, что понятие религии включает в себя понятие Бога, ни в коем случае не ускользнуло от меня, ибо действительно не требуется особой проницательности, чтобы заметить это, и я не упустил определить это понятие так, как религия действительно думает о нем в субъективном и что в объективном смысле. Я также не отказал философии в праве отрицать обоснованность идеи Бога, если она сможет привести достаточные основания для этого; но, конечно, тогда не было бы философии религии в утвердительном смысле, а философствование о религии привело бы только к ее распаду. Насколько беспристрастно я думаю о таком чисто отрицательном результате, показывает замечание (стр. 174), что если бы философии пришлось стоять на месте с таким результатом, то ради истины она должна была бы терпеть даже разлад с жизнью. В общем, от внимания моего слушателя совершенно ускользнуло, какое значение в моем сочинении придается размышлениям о субъективной естественной и объективной позитивной религии. Это констатация фактов, отчасти психологических, отчасти исторических; но ни чувства, ни желания, ни стремления, в которых кроется естественное происхождение религиозной веры, ни авторитет откровения я не рассматриваю как причины, с помощью которых можно было бы объективно обосновать философское убеждение в существовании Бога, а ищу их только в размышлениях о том, что дано в опыте и сознании, как это и вытекает из того веса, который я придаю попыткам доказать существование Бога. Доказательство психологического и исторического происхождения веры еще не является и не предполагается мною как дедукция desselebn на общезначимых основаниях. Почему, однако, я поставил эти исследования перед философским обоснованием религии? Потому что только из них можно узнать, что такое религия в ее независимости от философии, в непосредственности субъективной веры, а также веры в авторитет, какие человеческие потребности она стремится удовлетворить и каким должен быть результат философского обоснования веры, чтобы оно могло удовлетворить практическую потребность в религии. Только таким образом можно более точно определить требования религиозности к философии и поставить проблемы, которые последняя должна решить или неразрешимость которых она должна доказать. Без этой предварительной работы философия может углубиться в очень возвышенные спекуляции, возможно, даже достичь теологии, которая «снова может мыслить мысль о творении», считает, что раскрыла христианскую тайну Троицы, и так далее, но при этом она легко может застрять на размышлениях, которые совершенно неплодотворны для подлинного религиозного интереса. Спиноза вполне мог бы назвать свою единую субстанцию, Фихте – Бога морального миропорядка, но ни тот, ни другой не были тем Богом, которого имеет в виду и в котором нуждается религия. Я также не знаю, каким образом, как того требует Ульрики, возможна еще более тесная внутренняя связь религии в субъективном смысле с религией в объективном смысле, чем та, на которую я указал, поскольку это только факты, о которых я говорю и которые не имеют ничего общего с философским обоснованием религии. Дело в том, что религиозные чувства и потребности естественно возникают в отдельных человеческих существах и стремятся к удовлетворению посредством идей, считающихся истинными, что таким образом у более одаренных людей возникают последовательные доктрины, которые, будучи сообщены другим, находят у них поддержку, но пока они не научно обоснованы, философски выведены, они могут относиться только к религиозным взглядам и мнениям, которые представляют собой религиозную доктрину, хотя и естественную по своему происхождению, но весьма разнообразную в зависимости от знаний и всей духовной степени образованности ее создателей. Не менее важным фактом является и то, что слово «религия» имеет другое значение, нежели чисто субъективное – благочестивое умонастроение, склонное верить в нечто высшее, и вытекающие из него концепции и доктрины; что среди всех образованных народов существует общее учение о Боге или богах, считающееся истинным, общее поклонение им, которое передается исторически, и происхождение которого либо теряется в мифической предыстории, где повествование и поэзия текут вместе, либо исходит от определенных исторических лиц, которым либо, как боголюбивым провидцам, приписывался дар духовного созерцания божественного, либо которые даже, находясь в непосредственном общении с Божеством, были убеждены сами и убедили своих последователей. В обоих случаях религиозная доктрина, полученная в результате, хочет быть божественным откровением; ведь даже провидец и певец не считает, что он провозглашает то, что придумал, но то, что видел. Но во всех ли случаях, или только в некоторых, или ни в одном, было истинное откровение, божественное общение, вдохновение или даже общение с Божеством, или же некоторые, или все откровения были только самообманом, а местами даже преднамеренным обманом, остается на сегодняшний день совершенно нерешенным; ибо здесь речь идет только о признании того факта, что в откровение верили и продолжают верить. Вера в откровение носит исторический характер, вера в верность традиции, в подлинность документов, в правдивость тех, кто свидетельствовал о получении конкретного откровения, в надежность тех, кто свидетельствовал, что слышал это непосредственно от них, и т. д. Но склоняет к вере здесь не историческая критика, и не философская дедукция достоверности явленного, которые относятся лишь к позднему периоду научного отношения к религии, а восприимчивость, которая коренится в естественной потребности человека в религии, которая больше удовлетворяется фактами, чем результатами неопределенных размышлений или соответствующими образами воображения, представляющего желаемое. Чем больше доктрины откровения отвечают религиозным потребностям, тем охотнее и охотнее в них верят. Но как только укоренилось убеждение, что откровение Божества произошло где-то и когда, это убеждение действует как авторитет в отношении содержания того, что было открыто, так как это содержание может быть принято не иначе, как за божественную истину.
Эти соображения, как и набросок философии истории исторически данных религий, который я попытался сделать (стр. 37), служат, таким образом, лишь для подготовки «более узкой задачи философского учения о религии», которая (стр. 79) состоит в том, чтобы «подкрепить утверждение: Бог есть, объективно обоснованными причинами». Я не понимаю, каким образом я должен был выйти из круга системы Гербарта с помощью этой версии, в чем меня обвиняет Ульрици (указ. соч. стр. 275). Ведь даже для Гербарта понятие Бога, переданное нам естественной и позитивной религией, не является данностью в том смысле, что оно должно оставаться таковым, неизменным для философской мысли, как понятие, в реальности которого не следует сомневаться с самого начала и которое не могло бы потребовать более четкого определения или даже некоторой коррекции, требуемой мыслью. Если бы существование Бога было для Гербарта вопросом непосредственной уверенности, как мог бы он придавать такое большое значение телеологическому доказательству? И если бы он хотел отказать философии в праве изменять что-либо в традиционной концепции Бога (тогда ему пришлось бы назвать ее более конкретно – христианской концепцией), то как он мог сказать: «Философия находит концепцию Божества общепринятой среди людей; для нее самой сначала является проблемой, в каком виде должна предстать перед ней эта еще неограненная драгоценность; исходя из своих собственных убеждений, она должна ответить на этот вопрос; и самому возвышенному из своих понятий она не захочет отказать в самом возвышенном имени; напротив, с этим именем она в то же время примет столько известных типов концепций, сколько можно принять. Таков естественный, действительно неизбежный ход религиозных представлений мыслящего человека» (14).
Несмотря на мой предполагаемый отход от принципов Гербарта, эти принципы, по мнению Ульрици (с. 276), должны, тем не менее, вновь проявить себя в решении поставленной задачи, но привести результат исследования в противоречие с его предпосылками. Во-первых, а именно, мне говорят, что я нахожусь в противоречии тем, что никоим образом не признаю простое чувство в качестве объективного основания религии. Ибо поскольку, по моему собственному мнению, человек становится религиозным, когда он подчиняет свою волю высшему началу, которое он верит, что слышит либо внешне в исторической традиции, либо внутренне в голосе совести, но это слышание, как добавляет Ульрици, может быть первоначально опосредовано только чувством, то это слышание объявляется невозможным в силу непризнания значения чувства как основания знания, а вера в него, как и религия, объявляется заблуждением; субъективная естественная религия не имеет тогда, по крайней мере, «объективного основания». На это я должен коротко ответить: здесь вместо «объективного основания» следует поставить «объективную действительность»; таким образом, предложение по существу выражает мое мнение, но не содержит ничего противоречивого. В чувстве, вернее, в желании, вытекающем из этого чувства, удовлетворение которого дается добровольным принятием веры за истину, я, конечно, вижу психологическую, следовательно, субъективную основу религии, но я не могу найти ни в этом факте, ни в естественности его происхождения никакой гарантии того, во что верят, никакого объективно действительного основания для того, чтобы считать истинным и правдивым то, что удовлетворяет чувству и желанию, а должен требовать для этого других, объективно действительных оснований. Здесь я нахожусь на одной стороне не только с Гербартом, но и с Гегелем, и в оппозиции к Якоби и Шлейермахеру, которые видели в чувстве непосредственное откровение божественного.
Отвергая космологическое доказательство, я впадаю во второе противоречие. Ибо, говорит Ульрици, отвергая предположение об абсолютной безусловности, когда все остальное условно, как несостоятельное, я делаю невозможным для себя личного создателя мира, существование которого я позже объявлю морально необходимым. Но Ульрици упускает здесь много существенных вещей. Прежде всего, он неправ, когда говорит, что я объявляю необусловленное, как causa sui [причина из себя – wp] и как беспричинно существующее, противоречивым понятием; ибо простое реальное, монада, существует беспричинно и не имеет для меня ничего противоречивого. Но чисто простая и неизменная вещь без действия и страдания не может, однако, быть принята в качестве изначальной причины всех изменений, всех изменений видимости, поскольку вообще ни в мысли, ни в действии не может возникнуть какое-либо следствие из того, что чисто едино. Поэтому я пришел к выводу, что только множественность связанных между собой простых реальностей должна рассматриваться как необусловленная, обусловливающая все явления и их изменения, но я отмечаю, что это ведет только к умопостигаемому миру, лежащему в основе явлений, а не к духовному первопричине, и что космологическое доказательство не может привести к большему, чем это. Ведь оно основано только на общих понятиях субстанциональности и причинности и не содержит никаких моментов, указывающих на духовную личность. Оно также не может привести к субстанции и изначальной причинности, потому что из чистого и простого не может следовать ничего вообще. Телеологическое доказательство, однако, указывает на духовный источник всякой целенаправленности, а морально-телеологическое обоснование веры в Бога расширяет и укрепляет эту точку зрения. Поскольку, однако, все телеологические наблюдения не в состоянии установить существование такого личного первоначального начала, которое должно быть принято с аподиктической уверенностью, но лишь как вероятное, я не считал себя уполномоченным в «Основных доктринах философии религии» пытаться предпринять какое-либо метафизическое построение, которое соответствовало бы этой мысли, но, отказавшись от всякого объективного знания о природе Бога, предпринял лишь «более близкое определение идеи Бога», которое не предполагает постижения сущности Бога как таковой, но имеет лишь значение установления того, как мы должны мыслить Бога по отношению к себе и ко всему нравственно-природному миру. Позже, однако, я пошел на шаг дальше. Поскольку, по Гербарту, телеология имеет объективную силу не только в идеалистическом смысле, как у Канта, но и в реалистическом, мне казалось, что философии религии должно быть позволено уклониться от обязанности предоставления доказательств, что предположение о личном мироздании, основанном на телеологии и морали, не противоречит общим метафизическим принципам монадологического плюралистического реализма, при котором умопостигаемый мир, возникающий в космологическом доказательстве как то, что вызывает явления, вместо такого мироздания, образует как бы точку перехода. Это привело к появлению уже упомянутого трактата (том 1 настоящего журнала), который Ульрици оставил без внимания. Однако мне придется отказаться от его одобрительных слов тем более в отношении этой работы, что ему даже не стало ясно, что для Гербарта вся действенность реального не сливается в его внутренних состояниях, но что внешние позиции реального также должны им соответствовать, что иногда движения являются следствиями внутренних состояний, иногда – следствиями сближения противоположных качеств, опосредованных движением. Действие породителя реального мира на элементы реального мира, таким образом, не является, согласно Гербарту, непостижимым. Но то, что монадология Гербарта не может, подобно монадологии Лейбница, рассматривать простые реальные элементы как сотворенные, я не пытался скрыть ни в этом трактате, ни в «Основных доктринах». И что дает науке то, что Лейбниц называет монады эффульгурациями Бога, говоря, что они не могут ни возникнуть, ни исчезнуть естественным путем, но что они возникли сверхъестественным образом через творение и могут быть таким же образом аннулированы? Означает ли это что-либо иное, чем: понятно, что монады не могут ни возникнуть, ни исчезнуть, но непостижимым образом они могут? Какая польза от непостижимого для науки? Где начинается, там и заканчивается. И разве понятие Бога становится более возвышенным от того, что мы присоединяем к нему невозможные предикаты? Даже без этого преувеличения Бог остается непостижимым. По этой причине я даже не пытался вывести неограниченное могущество Бога, но открыто признал утверждение Гербарта, что «даже самый чистый теизм не может обойтись без принципа конечности», потому что с отказом от этого принципа прекращается всякое понимание и теряется всякая мысль. Я могу только повторить то, что я сказал там (15): «Кто по религиозной необходимости должен мыслить Бога как Бесконечное, сила которого должна сделать возможным и немыслимое; кто находит глубоким и возвышенным представить его как единство всех противоположностей, как немыслимое никакими категориями, то есть, другими словами, только как ткань противоречий, и кто находит его непостижимость именно в этом, с тем мы не хотим быть правыми. Благоразумному, однако, не уйти от того факта, что вместе с этим возникают лишь противоречия, как неизбежные последствия решения «погрузиться в ночь бесконечного». В любом случае, с таким решением философии приходит конец. Даже Лейбниц думал об этом иначе; ведь он утверждал, что божественная власть имеет свой предел в «вечных истинах» и что Бог может выбрать только лучший из возможных миров.
Что касается телеологии, то здесь следует отметить, что Ульрици утверждает слишком много, когда говорит (стр. 279), что несомненно, что «как единодушно признают естественные науки» (?), все имеет обусловленное и определяющее влияние на то, что есть в природе, и что, следовательно, ни одна цель не была бы достижима, если бы вся остальная природа не была задумана в соответствии с ее достижением и, следовательно, также целенаправленно; поэтому, если признать целенаправленность в отдельных случаях как факт, нельзя отрицать целенаправленность мира в целом, не противореча другому факту. Это, однако, лишь полуправдивый, популярный, назидательный взгляд на природу, который не является ни точным в различении между целеустремленностью, действительно существующей в природе, и той, которая только привносится в нее, ни даже в строгом отделении causa finalis от causa efficiens. Нельзя утверждать в такой общности, что все в природе действует на все; ведь кроме веществ и сил, действующих друг на друга, есть еще и те, которые ведут себя нейтрально, безразлично друг к другу; более того, целые ряды явлений протекают одновременно, независимо друг от друга; поэтому достижение каждой отдельной цели отнюдь не приводит в движение весь мир. Если стремление к цели действительно имеет место, то это свидетельствует лишь о том, что оно не встречает непреодолимого сопротивления, но не о том, что оно поддерживается со всех сторон. Сказать, что природа представляет собой непрерывную цепь целей и средств, – это гипербола; видеть организацию везде и даже там, где ее на самом деле нет, – это лишь натурфилософская фантазия; и никто, кто считает себя вправе говорить о мире в целом, не может относиться к природе с научной точки зрения.
Если, наконец, Ульрици обвиняет меня в том, что я основываю объективную обоснованность концепции Бога только на этико-практических основаниях, то это неверно, ибо я не отрицаю убедительной силы, заключенной в телеологическом взгляде на природу, но лишь считаю его нуждающимся в упрочении и дополнении. Если Ульрици обижается на то, что религиозность обосновывается из морали, потому что тем самым религия лишается независимого положения, то я, напротив, считаю, что совершенно безразлично, на чем основана религия, если она только стоит прочно, что везде косвенное должно вытекать из непосредственной совести, что, кроме того, мы не можем мыслить о Боге более возвышенно, чем через его моральные качества, и что религия без связи с моралью пуста и бессодержательна. Но на возражение Ульрици (стр. 279), что вполне можно допустить, что моральное сознание может быть или стать достаточно сильным для выполнения моральных требований и совершения добра даже без веры в достижимость моральных целей, из простого удовольствия от добра, я отвечаю словами старшего Фихте: «Для человека совершенно невозможно действовать без перспективы цели. Когда человек решает действовать, в нем возникает представление о будущем, которое последует за его действием, и это как раз и есть понятие цели.
Некоторые люди говорят: «Даже если бы человек отчаялся в Боге и в бессмертии, он все равно должен был бы исполнять свой долг», ставя вместе абсолютно несовместимые вещи. Только породите в себе расположение к долгу, и вы познаете Бога». (16) Действительно, без безусловного предположения о достижимости цели нашего желания нельзя желать ни в коем случае, следовательно, нельзя желать нравственно. Поэтому я не пытаюсь объективно оправдать веру в Бога «чувством нравственной слабости», но доказываю, что она является conditio sine qua non [основным условием – wp] выполнения наших обязанностей, как предпосылка, как условие, без которого было бы невозможно выполнить требования, предъявляемые к нам моралью. (17)
Примечания
1) Блюменбах все еще хотел перевести вид через род (Handbuch der Naturgeschichte, 10-е издание, предисловие), потому что только животные одного и того же вида спариваются плодовито; тогда как он выражал род через пол. Научное использование в настоящее время, кажется, в целом решило, в согласии с логическим использованием, переводить род через род, а вид через вид. Действительно, выражение «сохранение рода» дало бы место мысли, будто организм может размножаться и во вторичном виде, принадлежащем к тому же роду и связанном с ним, чего, как известно, не происходит.
2) КАНТ, Критика способности суждения, §66
3) Поскольку Кант не признает этого, его мотивом для этого суждения является лишь стремление получить таким образом принцип максимально возможного единства природы. Ср. «Критику чистого разума», в конце трансцендентального элементарного учения (Werke II, издание HARTENSTEIN, стр. 529.
4) ГЕРБАРТ, Метафизика I, стр. 101.
5) КАНТ, Критика способности суждения, §70.
6) Ср. Критика способности суждения, §70 и §78, особенно заключение этого параграфа.
7) Тренделенбург, Логические исследования II, страница 49
8) Тренделенбург, Логические исследования II, страница 350
9) О «Метафизике» Гербарта и ее новой концепции, в «Ежемесячных отчетах Берлинской академии», ноябрь 1853 г.; сейчас перепечатано в «Вклад в философию II» Тренделенбурга, см. там особенно стр. 342f.
10) Тренделенбург, Логические исследования II, стр. 26f.
11) Рассматривать саму природу как этот предмет, как это происходит, когда говорят о мудрости природы, – это незаконченная полумысль, с помощью которой пытаются уйти от решения вопроса, является ли божественный разум непосредственно имманентным в природе или же он проявляет себя в ней лишь косвенно, через ее эффекты. Кант хвалит эту форму выражения (например, в «Критике способности суждения», §68) как ту, которая не хочет ни создать из природы разумное существо (что было бы непоследовательно), ни поставить над ней другое разумное существо как хозяина труда, что, по его мнению, было бы самонадеянно; скорее, она предназначена только для обозначения своего рода причинности природы по аналогии с нашей в техническом использовании разума. Но эта скептическая сдержанность больше подходит натуралисту, чем философу.
12) «Монадология и спекулятивная теология» в т. 14 этого журнала.
13) В т. 23 этого журнала, стр. 269f.
14) HERBART, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, 4-е издание, стр. 221, §146.
15) В томе 14 настоящего журнала, стр. 106
16) Апелляция против обвинения в атеизме, стр. 42. Ср. также «Основные доктрины философии религии», стр. 161.
17) Я бы попросил нежного читателя перечитать мой процитированный трактат (том 23 настоящего журнала) и сравнить его с моей критикой системы Гербарта (Основные принципы философии II, стр. 496f), на которую я там прямо ссылаюсь. Тогда, возможно, упреки в мой адрес со стороны DROBISCH окажутся не совсем обоснованными, или, по крайней мере, предполагаемые недоразумения покажутся вполне объяснимыми. Кроме того, Гумбольдт, который, несомненно, знает кое-что о природе с научной точки зрения, говорит на первой странице своего «Космоса» о «взаимодействии сил во Вселенной» и тем самым выражает совершенно то же самое, что я имел в виду. – ГЕРМАН УЛЬРИЦИ
LITERATUR – Moritz Wilhelm Drobisch, ?ber den Zweckbegriff und seine Bedeutung f?r Naturwissenschaft, Metaphysik und Religionsphilosophie; Zeitschrift f?r Philosophie und philosophische Kritik, NF Bd. 29, Halle / Saale 1856.
ЯКОВ ФРИДРИХ ФРИЗ
Об отношении эмпирической психологии к метафизике
Кант однажды сказал: «До сих пор считали, что всякие наши познания будто бы должны сообразоваться с предметами. Однако рушились все построенные на этой предпосылке попытки через понятия что-то ? priori установить относительно предметов, благодаря чему расширялось бы наше познание. Поэтому следовало бы сделать попытку выяснить, не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предположения, что предметы должны сообразоваться с нашим познанием, – а это лучше согласуется с требуемой возможностью познания ? priori, которое должно установить нечто о предметах прежде, чем они нам будут даны.» (Критика чистого разума, Предисловие, стр. XVI).
Из этого нового взгляда возникла вся трансцендентальная критика, и на ней зиждется успех всех кантовских философских работ; этот успех теперь, пожалуй, уже никто не оспаривает.
Но что же дает этой критической процедуре, превосходящей все другие догматические процедуры, такое явно благоприятное влияние на все философские поиски?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо лишь четко объяснить разницу между двумя типами процедур.
Не входя здесь в словесные определения критицизма и догматизма философского метода, я останусь лишь со словами процитированного отрывка Канта. Мы должны рассматривать познание в задачах метафизики не как определяемое объектами, а как содержащее условие, от которого они зависят, в зависимости от способа их представления. Здесь, таким образом, различаются познания и их объекты; все зависит здесь от отношения между познанием и его объектом в целом для разума, как познающего субъекта. Это приводит к следующему общему соображению.
Каждое познание как таковое принадлежит состоянию ума, и каждое отдельное познание есть деятельность ума, а именно такая его деятельность (это его существенная характеристика), при которой объект представляется. Познание, а следовательно, и знание, являются, таким образом, объектами внутреннего опыта, а значит, и психологии, особенно ее эмпирической части.
Я могу, следовательно, и должен, если хочу быть до конца завершенным, рассматривать все познания, исследуя их с психологической точки зрения, в той мере, в какой они субъективно принадлежат состояниям ума; я могу здесь исследовать их различия, изменения и регулярность, которые принадлежат им самим по себе как деятельности ума.
Да, это рассмотрение познаний является даже самым непосредственным, потому что объект является для меня только объектом некоторого познания, то есть фактически только познание принадлежит уму, объект же есть только посредством его в отношении к нему.
Если, таким образом, непосредственно в разуме существуют законы для природы моего познания, то они будут содержать первые основные определения всего возможного для меня познания, под которые подпадает также всякий возможный для меня способ воображения объекта.
Если применить это к науке в целом, то, поскольку наука есть целое, состоящее из многообразных познаний, для каждого из них, кроме установления его из отдельных, многообразных познаний, входящих в него вместе, по логическим правилам системы, объектом которой являются сами эти познания в той мере, в какой они субъективно принадлежат разуму, вполне возможно предусмотреть для них предварительное исследование. В связи с этим возникает различие между двумя видами процедур при создании науки. Согласно одному из них, одна начинается сразу с установления системы, я называю ее догматической без критики; другая предваряется предварительным исследованием познания, я называю ее критической. Первый метод идет прямо к объекту, другой сначала сосредотачивается на субъекте познания.
Такое предварительное, критическое исследование возможно в каждой науке, но оно будет более или менее необходимым и целесообразным в зависимости от разнообразия типов знания. Я называю это пропедевтикой науки.
Такая пропедевтика всегда является эмпирической наукой. Ибо она может быть пропедевтикой какой бы то ни было науки, ее источником знания, тем не менее, всегда является внутреннее восприятие, то есть опыт. Это утверждение важно для современного состояния философии, как будет показано ниже; кроме того, его очень легко доказать.
Предметом пропедевтики является знание, субъективно относящееся к состояниям ума. Однако в соответствии с его состояниями и особенно в той мере, в какой он является способностью познания, мы познаем разум только во внутреннем опыте. Следовательно, вся пропедевтика является эмпирической наукой, исходящей из внутреннего опыта. Поэтому она также предполагает психологическое познание, заимствуя свои принципы из эмпирической теории души, и прежде всего из теории способности к познанию. Метод такого критического исследования всегда регрессивный или аналитический, и всякое исследование, проводимое по регрессивному методу с целью создания науки, относится к ее пропедевтике.
Легко видеть, что исследование по регрессивному методу может быть только подготовительным для науки. Ибо действительной целью каждого научного представления является знание из принципов, то есть полное знание всего конкретного из общего. Таким образом, здесь происходит переход от общего к частному. К каждому выводу я прихожу только с помощью его просиллогизмов, а к каждому понятию – только с помощью его синтеза из его характеристик, в определении; поэтому я всегда действую здесь прогрессивно или синтетически. Регрессивный метод, напротив, исходит из расчленения своих понятий, от каждого вывода к его просиллогизму; он ищет многообразные понимания данного, принципы, из которых может исходить наука.
Более того, каждый вывод от частного к общему относится только к субъективной связи познаний. В объективном ряду истинности наших познаний, то есть в соответствии с действительной зависимостью предложений друг от друга в отношении их истинности, общий закон является условием; частный случай – только условием. Поэтому всякое регрессивное исследование является критическим.
Наконец, все наше познание, согласно времени, исходит из конкретного, ибо оно начинается с конкретного чувственного восприятия. Поэтому первоначальный прогресс в отношении достоверности наших познаний, в той мере, в какой они субъективно относятся к душевным состояниям, происходит от частного к общему. Поэтому всякое критическое исследование является регрессивным.
Здесь утверждается, что такая пропедевтика, в рамках трансцендентальной критики, совершенно необходима для метафизики в частности. О том, что трансцендентальная критика и пропедевтика метафизики – это одно и то же, свидетельствует первое сравнение этих двух терминов. Пропедевтика здесь – это исследование метафизического знания в том виде, в каком оно возникает в разуме, а значит, и исследование способности к нему, а это – разум. (Ибо под метафизическим знанием здесь понимается всякое знание a priori из понятий в синтетических суждениях, т.е. материальное в отличие от логического).
Для того чтобы решить, является ли критика разума необходимой для метафизики и в какой степени, нам достаточно сравнить данное понятие пропедевтики с понятием метафизического знания.