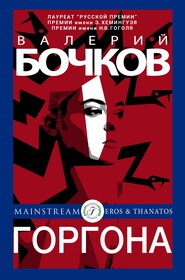По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сады Казановы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И добавьте туда же всех ангелов священного Августина…
Обсуждать происходящее считалось неприличным, на эту тему не говорили – старались не говорить. «Где мы и что это такое» каждый решал интимно, сам с собой. Нарушителей карали: на моих глазах францисканский монах, затеявший проповедь, просто лопнул как мыльный пузырь. Он утверждал, что вокзал является точной копией Дантова ада – только вверх ногами – и все грешники доставляются на надлежащий уровень, соответствующий тяжести их прегрешений. Лопнул без звука и исчез без следа. Впрочем, элемент здравого смысла в такой теории безусловно присутствовал.
Капсула, не сбавляя хода, проскользнула внутрь вокзала и мягко встала. Сверху лился сладкий матовый звук, округлый и ласковый. Трудно было определить, какой из органов чувств за что отвечает: слух тут сливался с обонянием, зрение с осязанием, я себя ощущала сверхчувствительной – здешние запахи были восхитительны – точно я проснулась среди ночи, а за окном конец мая, полная луна и куст жасмина.
Здешние стихии имели плавное свойство перетекать из одной в другую, богатство теней от голубого до тёмно-лилового, градации света от лимонного до вязко-медового – добавить сюда проворство бликов – превращали мир в затейливый витраж, но не плоский, вроде окна в соборе, а в объёмный и подвижный – почти живой, в котором и сам ты одно из звонких стёкол.
Тот монах уверял, что степень наказания зависит от материальности проступка: грехи невоздержанности – гнев и уныние, сладострастие, обжорство – не должны входить в категорию смертных и караться бесконечной пыткой.
11
А может быть, я неверно толкую происходящее. Придаю сну или бреду свойства чего-то более значительного? Загробный мир? Ад? Чистилище? Не слишком ли упрощённо – до примитивного: ведь согласитесь, даже самые мудрые из нас не так уж мудры. Проверенные мысли, что уютней плюшевых тапок под кроватью.
Ведь тот – наш мир, если отвинтить его нижнюю крышку, не так-то хитро и придуман: колёсики деревянные да пружинки, – не сложнее шарманки, а уж снаружи и говорить нечего – бутафория, кое-как сколоченный и наскоро покрашенный макет, не более…
…А может, это просто болезнь и я пребываю в клинике на Воробьёвых горах в состоянии глубокой комы – кто знает? Кто оттуда возвращался и всё ли у вернувшихся оттуда ладно с памятью – вот такой ещё вопрос.
И ещё: если лишить нас привычных мер и ориентиров, то мы тут же станем приспосабливать известное к непонятному. Метрами измерять любовь или тоску. Взвешивать в граммах синеву ночи. Это вместо того чтобы попробовать разобраться. Постараться вникнуть и понять. Так двоечник подгоняет решение задачи к подсмотренному в конце учебника ответу – муляж истины, который не сочнее яблока из папье-маше, раскрашенного вялой гуашью. Нельзя использовать логику мускулистой мысли там, где кружева сотканы из дымки небытия.
12
Сверху нежно звякнули хрустальные бубенцы, оповестившие о том, что капсулу можно теперь покинуть. Мы вышли в зал нашего уровня с высоченным куполом, который просто не мог быть такой высоты, исходя из конструкции вокзального фасада.
Было многолюдно, впрочем, как всегда. И, как всегда, при таком обилии пассажиров меня поражала тишина и отсутствие толчеи. Тишина – не совсем верное слово, правильнее сказать – шорох или шёпот. Так шуршат снежинки, падая в глухой деревенской ночи.
Какое-то время я держалась вместе с соседями по капсуле. Загорелый старикан наконец успокоился, на прощанье произнёс, не обращаясь ни к кому конкретно:
– Когда остаюсь наедине с собой, у меня не хватает смелости увидеть в себе художника в великом значении слова; я всего лишь развлекатель публики, понявший время. Это горько и больно, но это истина.
Он сморщился. Индианка с пулевым ранением во лбу тронула его руку и улыбнулась оленьими глазами. Итальянец хохотнул:
– Маэстро! Возьмите себя в руки и отнесите в безопасное место!
Художник отмахнулся от него и пошёл прочь. Следом ушла индианка: она приложила ладонь к груди, склонив голову, сделала шаг назад и растворилась в толпе.
– Позвольте, сударыня, – итальянец тонким мизинцем заправил седоватую прядь за ухо, – позвольте сопроводить вас под аркады, синьоритта…
– Синьора, – перебила я почти грубо. – Не позволю.
– Однако же, я имею сообщить сведения исключительной притягательности для вас…
Он подался ко мне. От него пахнуло сдобными булочками с корицей. Запах что-то мне напомнил, что-то мучительно неуловимое – кажется, вот-вот и ухватишь, ан нет – ускользнуло.
– Книги… – Итальянец зашептал мне в ухо. – Они запрещены Трибуналом Пяти – эти книги. «Ключ Соломонов», «Зекорбен», «Пикатрикс» и наставление по влиянию планет «Плутония», какое позволяет с помощью благовоний и заклинаний вступать в беседу с демонами всякого чина…
– С корицей… – пробормотала я.
– Что? – он запнулся, приоткрыв рот.
Вместо ответа я смачно поцеловала его в губы.
Вокруг сновали пассажиры, долетали обрывки фраз – вялые и лёгкие – безвольные, как тополиный пух.
– …территория абсолютной свободы…
– …истинное устройство…
– …регистрация ночи…
Сверху зазвучала музыка, некая квинтэссенция всех вальсов – Кальман, Чайковский, Прокофьев были слиты в один сосуд и перемешаны кем-то умелым с превосходным музыкальным вкусом. Пассажиры сбились в пары и начали вальсировать.
– Позвольте?
Итальянец ухватил меня. Ловко и со знанием дела закружил – вот ведь щёголь, вот проныра! Зашушукал шёпотом в ухо, жарким и щекотным. В ход пошли губы и язык. Ушная раковина стала центром вселенной, всё моё существо, хихикая, блаженно перетекло туда.
Легче листа, пустая, как скорлупка, голова летела кругами, восьмёрками, какими-то уж совсем немыслимыми фигурами. Пол исчез – да и был ли он? Итальянец уже не казался таким уродливым, к тому же у него добавились ещё как минимум две пары рук. С проворством похотливого осьминога он сжимал мою талию, ласкал мочку уха и массировал сосок левой груди, одновременно расстёгивая лифчик и старался просунуть жаркую ладонь между моих слабеющих ляжек.
Я впилась в его карамельный рот. Нежно, жадно, страстно – как Руднева учила – будто губами перезрелый персик хочешь высосать. Обвила руками. Мои ногти рвали шёлк его камзола, миланское золотое шитьё, воздушные кружева, сотканные усердными девственницами в слепых кельях Брюссельских монастырей.
Весело трещал батист рубашки.
Бронзовые пуговицы, литые, с силуэтом крылатого льва, пулями летели во все стороны и падали в бездну, распахнувшуюся под нами. Я обхватила его цепкими ногами, скрестила их. Сдавила мускулистые ягодицы и начала движение. Как шоколадная папуаска, что скользит по полированному стволу пальмы к вожделенному кокосу. Упруго и ритмично, каждым толчком приближая полёт.
Оргазм был чудесен, как глоток родниковой воды в темнице. Как утро отменённой казни. Как синее лето с жёлтым солнцем. Я захлебнулась и обратилась в стон. Звук растаял, едва окрасив воздух малиновым. Порочная ночь вздрогнула и замерла на полпути к безгрешному рассвету. Истома безмятежно перешла в меланхолию, та сменилась грустной пустотой; неясная звезда моргнула в прорехе холодных туч и погасла. Умерла. Всё – занавес.
Часть третья
Снова тут
13
Чёртов дождь – я снова про него забыла. И снова забыла спросить, какая у него машина. Опыт предыдущих заходов не всегда совпадает с реальностью последующих. Прячась от ливня под козырьком кофейни, я достала телефон и ещё раз проверила последний текст. Всё правильно – девять тридцать вечера, высотка на Восстания, левое крыло. Три восклицательных знака, красное сердечко и два банана.
Мне хочется обставить мой выход таинственно. А с другой стороны непринуждённо. Как совместить – не ясно, чувствую, что краска течёт по лицу, наверняка потекла и тушь. Вечерний город гремит, сверху давит коричневая тьма, сырая и тяжёлая, которая исполняется теперь вместо заката в нашей столице. К ночи коричневое перетечёт в чернильное – без звёзд и месяца. Свинцовая тень, набухшая дождём, придавит город, расползётся по бульварам, просочится в переулки, проберётся в щели приоткрытых форточек, зальётся в жилища спящих грешников. Тайно, безжалостно, неотвратимо. Куда вообще подевались звёзды?
Машина свернула с Баррикадной – важная, чересчур белая и слишком большая. Шелестя шинами, прокатила по лужам, разбрызгивая желтизну фонарей. Я вжалась в тень. Фары наощупь скользнули по мокрой стене, по ногам, вспыхнули на золотом боку водосточной трубы. Потекли дальше, выхватывая лишь серую пустоту, наскоро заштрихованную дождём.
Хлопнула дверь кофейни, оттуда пахнуло тёплыми булочками с корицей и убежавшим молоком. На миг моё сознание куда-то провалилась, в какую-то невыносимо уютную муть с тоскливым персиковым выдохом на перистых облаках. Когда я вынырнула, его машина стояла передо мной. Морковного цвета «королла». В темноте салона призрачное лицо лунного цвета и торопливая рука, призывно зовущая внутрь.
Я открыла дверь, взглядом скользнув по крыше, – как новая, ни единой вмятины. Забралась и села, хлопнула дверью, слишком громко.
– Извини… – тихо сказала.
Он что-то буркнул ядовито-приветливо. Мы развернулись и въехали в переулок.
– Тебя никто не видел? – спросил.
Тон непринуждённый, но с подкладкой из шершавого беспокойства. Мы обогнули высотку. Кровавая вывеска шахматного бара – ферзь и рюмка, мутные окна, ещё одна вывеска – эта синяя с женским силуэтом из неона, салон красоты, должно быть. Костяшки его кулаков казались зеленоватыми в свете плывущих фонарей. Остановились на светофоре перед Садовым. Поворотник нервно начал цыкать. Наконец повернули, уже на красный, пугая суетливых пешеходов. Неуклюже втиснулись в правый ряд.