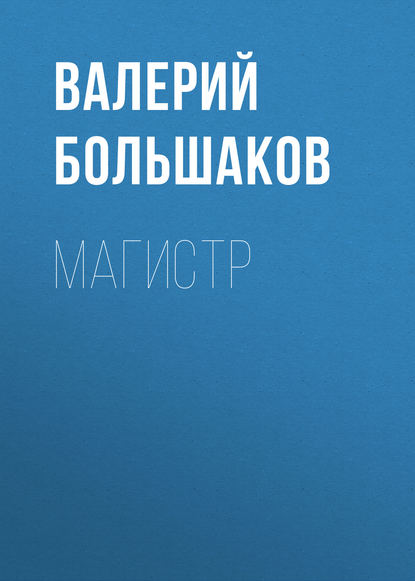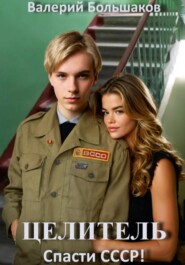По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Магистр
Серия
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шагая по гулкому настилу вдоль правого борта, Сухов вышел на корму, где двое кормчих удерживали рулевые вёсла. Над кряхтящими кормщиками загибались два «рога» – кормовые завитки-акростоли, – а ещё выше колыхалась пурпурная хоругвь с ликом Богоматери. Над её главой отливал серебром полумесяц со звездой внутри – знак Артемиды, богини-девственницы. Вроде как спасла она во время оно городишко Византий от набега Филиппа, царя македонского, и благодарные жители назвали в честь богини бухту Золотым Рогом. Семьсот лет спустя Артемида-звероловица совместилась в сознании верующих с Богородицей…
Хоругвь была тяжела от злата-серебра, и ветер никак не мог заставить её трепетать и полоскаться.
– Не понять мне вас, христиан, – проворчал Клык, перехватывая взгляд Олегов. – Кабыть, полумесяц со звёздочкой арабы себе малюют, так и вы туда же!
– Бог един, – мягко сказал Сухов. И задумался.
Однажды крестившись, он не часто посещал церковь. Любил справлять Пасху, а остальные праздники бывало, что и пропускал, увиливая от пышных церемоний и торжеств, ибо был убеждён – суть христианства вовсе не в соблюдении ритуалов, не в следовании догматам, а в верности глубинной сути, основному устою, Символу веры. Христос дал новую заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя!» – и это была величайшая идея всех времён и народов. Возлюби ближнего! Не воюй, не причиняй боли и смерти, не приноси горя, не возбуждай ненависти, безразличен не будь, не лги, не трусь, не предавай и не совершай подлости, а возлюби! Возлюби – и рай земной устроится при твоей жизни. Дружи или пылай страстью. Живи по совести, по закону стыда. Поддержи упадающего, подсоби слабому, пойми ближнего и помилосердствуй. Это же так просто! И будет всем счастье.
Так нет же, не приемлют человеки любви, всё кровь проливают, стяжают и пакостят, пакостят, пакостят… Миряне мечом отбивают чужих жен и не своё добро, а попы – крестом, насилуя идею Христову, извращая смысл её. Угнетает тебя власть, обирает? А ты возлюби её, ибо вся власть от Бога, а Бог есть любовь! Ты пашешь от зари до зари, потом своим и кровью орошаешь землю, а весь урожай достаётся богатею-землевладельцу? Он жиреет, а жена твоя старится смолоду, и дети от голода пухнут? Так возлюби жиреющего! Возлюби врага, возлюби палача и сиятельного вора, возлюби притеснителя, но только не требуй взаимности, не впадай во грех равенства…
Быть может, светлая заповедь Христова неисполнима вовсе? Но вот же он, Олег, готов жить в мире, где правит Любовь! Он любит свою Алёнку, друзей любит… Врагов, правда, недолюбливает. Живёт сам и даёт умереть другим. Убивает, чтобы не умереть самому, чтобы любить по-прежнему тех, кто достоин исполнения божественной заповеди…
…Византийские берега постепенно опадали, теряя подробности рельефа и заплывая синим цветом, ужимаясь в темную полосу по окоёму, пропадая вовсе за обливными валами. Ай, хорошее море! Русское море.
…Крепко сидел Тмуторокан, заняв место на берегу крошечного полуострова, связанного с большой землей песчаными косами, обрамлявшими горькие соленые озера и мелкие заливчики – с суши не взять! Да и с моря не подкрадешься – повсюду мели переходящие, там и сям скалы торчат, а берег высок, крут и обрывист. Недаром предприимчивые эллины один за другим полисы свои здесь выстраивали – Гермонассу, Горгиппию, Фанагорию. Знали толк!
А какая земля вокруг Тмуторокана – жирнющий чернозем! И толщины неимоверной – закапывайся хоть на два, хоть на три роста, а до худосочной глины не докопаешься. И зеленели за стенами тмутороканскими виноградники, колосился хлеб, цвели сады. А воды еще богаче были, еще изобильней – воистину море обетованное. Старики по бережку промышляли – не торопясь, набивали полные мешки вкусными мидиями, а дети их рыбу ловили, да не всякую, а с разбором. Белугу брали, осетром не брезговали, а прочие «дары моря» – к чему им?
Короче говоря, не ищи места лучше Тмуторокана, всё равно не найдёшь!
По выходе в Понт Эвксинский дромон повернул на восток, минуя Гераклею и Амастриду, которую ромейские мореходы называли оком Пафлагонии (а варяги грабили, и не раз). У мыса Карамбис корабль взял курс на север, отправившись ночью, чтобы плыть с попутным ветром и дойти с его помощью до середины Понта, где с наступлением дня ветер переменится и домчит до места. Так и случилось.
По левому борту «Жезла Аарона» проплывала Таврия, стекая на восток пологими травянистыми холмами, предвещая степной простор и обрываясь в море слоистыми кручами.
Входной маяк Боспора Киммерийского[29 - Боспор Киммерийский – ныне Керченский пролив.] встал по левую руку, и навклир повернул дромон на пол-оборота к северу.
С моря открылся взгляду неширокий пролив, вёрст пятнадцати у входа.
Утреннее солнце висело красным щитом во мгле испарений Сурожского моря.[30 - Сурожское море нынче называют Азовским. Ромеи прозывали его Меотидой.] Туманец застил дали пролива, но небо гляделось ясно. Солнце набирало жару, забираясь на небеси, и туманная мгла истаяла, преподнося глазу восточный берег – как зеркальное отражение берега западного.
В проливе качались струги и ушкуи, рыбари с них выбирали неводы. Ценную рыбу швыряли под ноги, лишнюю отпускали в море. Из воды торчали тонкие шесты, опоры ставных неводов. На мелкой волне плясали поплавки из красной осокоревой коры, удерживая переметы для донной ловли.
– Тмуторокан видат! – довольно сказал Котян.
– Как же тебя сопливое святейшество отпустило, не понимаю, – проговорил Сухов.
Печенег ухмыльнулся.
– А я ему коней обещал привезти, – сказал он, – тутошних коней, что от роксоланских альпов породу ведут. Патриарх мигом меня собрал, еще и денег дал на дорогу!
– Всё с тобой ясно…
Восточный берег всё задирался слоистой кручей. Понизу обрыва стелился узенький жёлтопесчаный бережок – не шире тропинки. А вот и город показался – травянистые валы поднялись за обрывом, а по валам тем белокаменные стены протянулись, укреплённые башнями круглыми и квадратными, толстыми и могучими даже с виду.
Дромон шёл медленно, сторожко, держась подальше от светлеющих мелей и темневших подводных камней. За городом «Жезл Аарона» повернул к пристани.
У причалов покачивались крутобокие ромейские саландеры, нагружаемые амфорами с местной нефтью, гнутые арабские фелюги, высоко задиравшие нос и корму, торговый русский кнорр, несколько скедий, черных с синим, а поодаль стояли в рядок боевые лодьи – длиннотелые, хищных очертаний корабли. Мелкая волна вскидывала их форштевни – пока что пустые. Головы драконов, горгулий и прочих чудищ, украшающие их в походе, были сняты в виду родных берегов – своих-то зачем пугать? Успокаиваясь и радуясь, Олег насчитал семь лодий.
– Во! – хмыкнул Клык. – Ишшо три штуки настругали! Ну, молодцы! Ужо намнём лангобардам по телесам!
Убрав паруса, дромон подошёл к пристани на вёслах. Пара босоногих гридней в одних кожаных штанах приняла швартовы и живо накрутила их на крепкие деревянные столбы.
Прибыли.
Блистать белыми одеждами магистра Сухов не стал – обрядившись в чёрный сагий, расшитый золотыми орлами, он спустился по трапу на бревенчатый причал. И сразу же услыхал родную речь:
– А чего это сюда ромеи припёрлись?
Вопрошал молодой и норовистый гридень с наглыми глазами забияки. В одних портках да в тяжёлой куртке из буйволиной кожи, обшитой роговыми пластинами, гридень задирал нос не по чину. Шлем с наносником и выкружками для глаз был молодцу великоват и сидел косо, а из-под него выглядывали две смешные рыжие косицы.
– Ты глазья-то разуй! – прикрикнул на него Боевой Клык. – Нашенский это Олег! Али не признал?
Парень охнул и засуетился:
– Князюшка, вот не ждали!
– Ступай отседова, Стемид, да ярла призови.
– Карла, что ли?
– Всех, кого сыщешь, – и Карла, и Олава, и… Чьи это лодьи стоят, ведомо тебе?
– А как же! – взбодрился Стемид. – Вон, с краю, Карла Вилобородого лодья, «Пардусом» наречена. Рядом «Семаргл» Веремуда Высокого и «Вий» Гуды Змеиного Глаза, а четвёртая отсюда кабыть «Лембой» Рулава Счастливого. За ним сразу «Финист» Вуефаста Дороги…
– И этот здесь? – осклабился светлый князь. – Ага! Да ты не молчи, я слушаю. А те, што за «Финистом»?
– Которая последняя – «Морской змей» Олава Лесоруба, – протараторил Стемид, – а та, что поближе, – «Зилант», Либиар Лысый его на той неделе в море вывел.
– Вот и давай их всех… куда? А давай к тому дому с колоннами, где мы хазарина вешали. Живо!
Стемид почесал так, что босые пятки засверкали, а делегация стала чинно подниматься по крутой тропке наверх, к городу. Олег постоянно встречал приметы здешней жизни, и они находили отклик в его русской душе. Вон молодые девки в одних рубахах стоят, вёдра тащат полные, аж коромысла гнутся. У девиц на головах веночки, сзади косы до пояса, а ветерок шаловливо задирает подолы или облепляет точёные фигурки, подсказывая рассудку незримые черты. А где-то петух голосит, мычит корова, звякает кузнечный молот. Русским духом пахнет, вот только запах распаренных банных веников странно сочетается с ароматами полыни и гниющих водорослей.
За распахнутыми воротами крепости Олегу открылась извилистая улица, впадающая в пыльный майдан. Под ногами пощёлкивало – уличку по эллинскому обычаю мостили галькой, осколками битых амфор, кувшинов и прочей утвари.
Россы были пришельцами в здешних безлесых краях, но приспособились они быстро. Ставили хаты-мазанки, кто побогаче – дома из ракушечника складывали. А рожь сеяли вместе с пшеницей, получалась сурожь, оттого и море так назвали.
– Тебя тут, как венценосную особу, встречают, – проговорил Пончик. – По улице живого магистра водят, как видно, напоказ. Угу…
– Цыц! – сказал Олег. – Не мешай мне исполнять волю государеву.
А на улицах Тмуторокана и впрямь людно стало. Население тутошнее, зрелищами не избалованное, выходило посмотреть на ромейского вельможу, являясь всем семейством. Причём к статному блондину, светлоглазому и светлокожему, частенько жалась чёрноглазая брюнетка из алан, булгар или ясов – тут вместе сходились горы, степь и лес.
– Олежа!
Сухов встрепенулся, завидя крепкого деда, будто сделанного из стали и сыромятной кожи. Это был Турберн Железнобокий.
– В гости припожаловал, дорогой? – осведомился он, лучась.