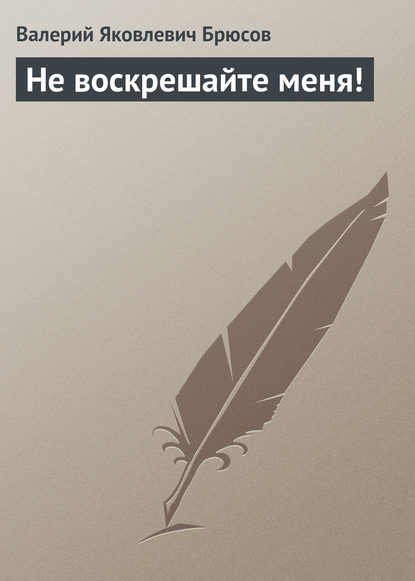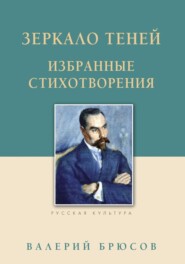По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Не воскрешайте меня!
Автор
Год написания книги
1918
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Директор дал знак, нажал какие-то кнопки, занавески колыхнулись, и за занавесками разлился свет. Потом директор уже готовился отдернуть и занавески, но вдруг остановился и опять обратился ко мне.
– Видите ли, – сказал он, – теургия все же наука молодая, в наших опытах бывают кое-какие недочеты. Я должен предупредить вас, что опыт с Гегелем нам не совсем удался.
– Это оказался не Гегель? – спросил я.
– О нет, нет! Несомненно, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, автор диалектической философии. Дело в другом. А именно: восстановление удалось лишь частично. По-видимому, сам Гегель мыслил себя лишь как лицо и не чувствовал своего тела… Поэтому… Но вы сейчас увидите…
Директор отдернул темные занавески. Я увидел внутренность клетки или аквариума. То была кубическая комната со стенами из толстого стекла, совершенно пустая. Кроме какого-то полукресла-полуложа, стоявшего посредине. На этом ложе лежало что-то серое, какие-то клубы не то одежды, не то густого тумана. Но из этого тумана поднималась человеческая голова, и то был благородный облик, о котором Шопенгауэр говорил в припадке злобы: «Лицо трактирщика, гласящее явно: заурядная башка».
Гегель не то спал, не то был в забытьи. Глаза были закрыты, губы беспомощно отвисли. По лицу ему можно было дать лет 30–35, но была какая-то старческая вялость в коже щек, в веках глаз. То был не труп, но и не живой человек. Что касается тела, то вместо него простиралась неопределенная масса, закутанная в серое, но, присмотревшись, я не без содрогания убедился, что эта масса в своей верхней части слабо вибрирует, как если бы там билось человеческое сердце!
Директор торжествовал и глядел на меня, как триумфатор.
– Мы сейчас разбудим его, – заявил он мне.
Опять были нажаты кнопки, повернуты выключатели, и вдруг лицо лежащего человека шелохнулось, глаза открылись, и на нас устремился бессмысленно тупой взгляд. Гегель смотрел и, по-видимому, старался что-то сообразить.
– Мы заговорим с ним! – воскликнул директор.
Он схватил трубку телефона, висевшую на столбике, поднес к губам и закричал громко по-немецки:
– Господин профессор! Как вы себя сегодня чувствуете?
При этом директор передал трубку мне.
Я смотрел на лицо Гегеля. Он расслышал вопрос, но понял ли его, не знаю. Все же губы на лице шевельнулись, часть тела, соответствующая груди, напряглась, словно легкие делали крайнее усилие произвести звук, и вот до меня долетел глухой, хриплый, неестественный голос:
– Молока бы! – это было латинское слово (точнее: «Немного молока!»).
– Что, что он говорит? – засуетился директор.
– Он просит молока, – ответил я, отдавая трубку.
– Ах, сейчас, сейчас! Завтрак № 1! – распорядился директор, обращаясь к сторожу, а в телефон прокричал по-немецки:
– Немедленно получите, господин профессор!
– Неужели восстановленные едят? – осведомился я.
– О, конечно, нет! – ответил мне ассистент. Мы особыми средствами возбуждаем их силы, а они принимают это как завтрак или обед.
Между тем Гегель опять закрыл глаза и впал в свою тупую дремоту.
– Перейдем к следующему, – предложил директор, задергивая занавески и гася свет.
Я не возражал. Мы подошли к клетке № 2, над которой было надписано: «Нинон де Ланкло[1 - Известная французская куртизаика.]. 1616–1706 гг.».
На этот раз я подавил восклицание изумления и только спросил:
– А этот опыт удался вполне? Директор немного замялся.
– Теургия – наука молодая… Получилась какая-то неправильность в органах дыхания… Короче, объект не может говорить.
«Ну, для Нинон не в этом главное!» – подумал я.
Директор отдернул занавески и осветил клетку.
Посредине клетки на ложе было простерто существо. Несомненно, то была женщина. Тело ее было закутано в какую-то зеленоватую материю вроде савана. Ног не было видно. Но зато выступали две руки – изящества и нежности изумительной. Ах, если теургия чем-либо может гордиться, то восстановлением этих двух рук: такой чистоты линий, такого совершенства форм я не знаю ни у одной античной статуи! А при всем том это были руки живого существа, живой женщины…
Но лицо… Нинон, когда ее осветили, тоже спала. Было несомненно, что перед нами лицо молодой женщины, и вместе с тем свежая кожа была стянута чудовищными морщинами. И было что-то до ужаса отвратительное в этом сочетании молодого тела и старческих морщин! Была ли красива спящая? Нет, даже забывая ее морщины, нельзя было забыть мертвенности, больше того – трупности ее лица. То была не восковая маска, не лицо только что умершей красавицы, но мумия. Чудесно сохраненная и все же пролежавшая целые столетия. Хотелось закрыть глаза, чтобы не видать этого унижения красоты!
Но директор не замечал моих впечатлений. Напротив, он ликовал все более и более.
– Хотите поговорить с ней? – спросил он меня. – Она не может нам отвечать, но все слышит.
Взяв телефон, он спросил по-французски:
– Здравствуйте, мадам де Ланкло!
Лежащая женщина открыла глаза – мутные, вялые. Мгновение она смотрела на нас, потом медленно, видимо, с трудом подняла свою очаровательную ручку и поднесла ее ко рту.
– Что это? – спросил я. – Она жалуется, что не может говорить?
– Нет, – возразил ассистент, – она просит есть.
Я готов был бежать из института. Мне казалось, что я видел достаточно. Но директор теперь уже сам не отпускал меня.
– А наш третий объект? Вы не хотите взглянуть на него? О, это один из самых смелых экспериментов!
Необходимо было согласиться. Я подошел к клетке № 3. На ней была надпись: «Иуда Искариот[2 - Один из апостолов мифического Христа.]. I век н. э.». Директор задыхался от торжества:
– Подумайте, какой триумф науки! Нас отделяют две тысячи лет, и восстановление достигнуто, достигнуто!
Занавески сдернуты, клетка освещена. Перед нами черноватая груда вещества, в которой лишь с трудом можно различить человеческое лицо, руки, туловище, ноги… Эта груда колышется, двигается, трепещет.
– Восстановление несовершенно, – торопится заявить директор, – но ведь две тысячи лет!
Он передает мне трубку телефона. Я подношу к уху и слышу не то стон, не то хрип.
– Что это? Он тоже просит есть?
– Нет. Он так целые дни стонет, когда в сознании, непонятно почему. Может быть, что-либо неправильно восстановлено во внутренних органах. К тому же ведь биография Иуды нам известна далеко не во всех подробностях…
Я не слушаю дальше. Я почти бегу из лаборатории. Скорее, скорее на волю, к живым людям!
Когда я прощался, благодарил директора и ассистента за их любезность и предупредительность и выражал, как того требовала вежливость, свое изумление и свой восторг перед великим торжеством науки, оба члена института наслаждались моими словами как должной данью. Если бы я зажег ладан и воскурил благоухание перед директором, как перед иконой, он, вероятно, не удивился бы, но на самое прощание я сказал:
– Однако у вас в институте недостает одного отдела.