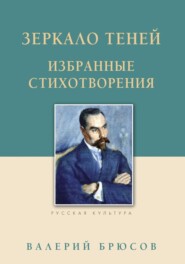По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Учители учителей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, можно допустить, что некоторые из перечисленных нами должностей совмещались в одном лице: «комендант» мог быть и военачальником, один из писцов – школьным учителем, значительное число обязанностей исполняться рабами и рабынями, даже актерами театра могли быть члены жреческой общины, так как театр составлял учреждение священное и спектакли были частью божественного культа. Но, как бы мы ни сокращали число необходимых в лабиринте лиц, все же население его должно оставаться весьма большим, исчисляемым многими десятками, если не сотнями тысяч человек. Кто-нибудь да оживлял все эти покои, коридоры, террасы, лестницы, дворы и дворики, которые даже на плане запутывают наш глаз! Кто-нибудь да заполнял ярусы и скамьи в театре, вмещавшем несколько тысяч зрителей! Кто-нибудь да обслуживал обширные амбары и кладовые, где тянутся длинные ряды ларей, бочек, кассел и пифов! Кто-нибудь да делал в мостовых и в стенах те поправки и починки, следы которых подмечены современными наблюдателями! Кто-нибудь да присматривал за узниками, брошенными в подземные темницы, приносил туда обычный тюремный паек, кус хлеба и чашку воды! Кто-нибудь, наконец, да заботился сколько-нибудь о порядке в гигантском доме, стирал пыль с драгоценных ваз, подметал полы и мостовые, стелил ложа, служил за пиршественными столами! Для кого-нибудь да строился великий лабиринт, в течение веков все расширявшийся и разраставшийся! Ведь то была не величавая гробница, как пирамида Хеопса, по самому своему назначению – мертвая, чуждая современности, обращенная, как символ, к отдаленному будущему, но – жилой дом, приспособленный для всех удобств и для всех наслаждений жизни деятельной, изысканно-роскошной и утонченно-покойной.
Вглядываясь в гигантские руины лабиринта, рассматривая его хитрый и глубокообдуманный план, вникая в подробности уцелевшей обстановки и убранства, следя, шаг за шагом, за открытиями археологов, – нельзя себе представлять эту жизнь во дворце-городе иначе, как шумной, пышной и многообразной. То совершались здесь официальные торжества в большой «тронной» зале, «выходы» государя или приемы иностранных посольств, например, из Египта. Выступали послы заморской земли, в национальных одеяниях, преклонялись пред миносом, приносили ему дары союзного или вассального царя, сверкавшие золотом, серебром, слоновой костью; а местная знать окружала престол своего владыки, как живой венец его славы и могущества[13 - О таких приемах мы можем составить понятие по одной египетской фреске, изображающей эгейское посольство к фараону.]. То выходил минос к своему народу, показываясь за стенами лабиринта, перед главным входом, под пышным портиком, стоя, в царской мантии, весь усыпанный драгоценностями, на пестром фоне изразцовой стены и ее фресок; народ восторженно приветствовал государя, обращался к нему со своими жалобами, ждал от него суда и расправы[14 - На такие выходы указывают особые скамьи, устроенные у главного входа в лабиринт.]. То в малых покоях происходили заседания совета миноса, где, в кругу своих министров, «канцлера», «визиря» и других сановников, государь решал вопросы войны и мира, давал законы населению страны, подводил итоги государственным и дворцовым расходам[15 - Об этом свидетельствует «архив» лабиринта, с его обширным счетоводством.]. То назначались торжественные богослужения в большом храме, горели перед статуями богов огни, с курильниц возносился фимиам, звучало пение священных гимнов, в длинных коридорах шли пышные процессии или исполнялись ритуальные пляски[16 - Это следует из самого устройства храмов и коридоров, из которых один даже получил у исследователей название «коридора процессий»; кроме того, подходящие изображения сохранились на геммах и пластинках.]. То давались спектакли в театре, точнее – в цирковом амфитеатре, полурелигиозные действа, собиравшие в клинья «зрительного зала» все населения лабиринта; может быть, исполнялись и трагедии или комические мимы, но, несомненно, происходили на арене «бои быков», правильнее – «скачки с быками», занимавшие особое место в ритуале эгейской религии[17 - Изображения таких «скачек с быками» весьма часто встречаются в эгейском искусстве; мы еще будем о них говорить подробнее.]. Как современные государи, критские миносы каждодневно должны были нести тяжкое бремя «представительства», и, по всему судя, этикет в лабиринте был не более легким, чем 40 веков спустя в Версале!
Жизнь деловая и богослужения сменялись празднествами. То в пиршественных залах воздвигались громадные столы для дневного или ночного пира, зажигались смоляные факелы и масленые лампады, серебряные блюда гнулись от обильных и изысканных снедей, подавались жареные кабаны, птица, рыба, овощи и плоды, вино текло из больших киафов в малые фиалы, шумели и веселились приглашенные, блистая богатством и новизной своих туалетов; дамы, которые у эгейцев принимали участие в празднествах наравне с мужчинами, выставляли напоказ свои платья с множеством оборок и прошивок, сложные прически, в виде целых сооружений на голове, фамильные драгоценности и прелесть глубоко декольтированной груди; мужчины тоже блистали золотом и драгоценностями, дорогими поясами, перстнями, пряжками и особенно щеголяли длинными черными локонами, завитыми тщательно и причудливо[18 - Все это мы узнаем по фрескам, эгейским и египетским, и по рисункам на разных предметах; подробнее о костюмах критян – дальше.]. То, в подходящую пору года, устраивались многолюдные выезды за стены дворца-города, на царскую охоту, в ближние леса и предгорья, дамы на колесницах, мужчины на редких скакунах, со сворами собак, с толпой ловчих, доезжачих-загонщиков, которые заботливо оберегали знатных участников охоты от всех опасностей и трудов, превращая ее в легкую и милую летнюю забаву[19 - Такая охота на кабана изображена на одной фреске Тиринфского дворца; о ней подробнее в следующей главе.]. Бывали, конечно, и царские смотры войскам, перед стенами лабиринта, бывали состязания верхом или на колесницах, атлетические или гимнастические состязания, кулачные бои, метание дисков и копий, бег взапуски, может быть, состязания певцов и т. п.[20 - Все это можно заключить по изображениям на геммах, пластинках и разных предметах (вазах и др.).]. В жаркие месяцы лета минос отбывал в свою маленькую виллу, чтобы там, в тиши полусельского уединения, отдохнуть от дел, забыть тревоги и труды миновавшего года и на досуге насладиться всей роскошью и всем богатством, которые достались ему, как законное наследие, от длинного ряда царственных предков.
Как гигантский муравейник, лабиринт был в непрестанном движении. Каждое утро рассыпались по бесчисленным залам и дворикам низшие слуги с метлами, щетками и тряпками; загорался огонь в печах, повара и хлебопеки приступали к своему делу; на конюшнях, на скотном дворе, на псарне хлопотали люди, приставленные к царскому скоту; сменялась стража у ворот и у дверей; начинали стучать молотками каменщики и скульпторы, живописцы несли чашки с красками, слышался визг пилы и скрип гончарного станка. Тем временем жрецы, в длинных одеяниях, совершали достодолжные каждодневные обряды; в канцелярии царя склонялись над счетами и квитанциями или над царскими указами писцы и архивариусы; царские советники собирались в приемных, ожидая выхода Миноса; рядом ждали послы иностранных дворов, частные лица, равные просители, которым была обещана аудиенция. Начинался деловой и трудовой день. А, в своих комнатах, женщины в это время неутомимо просиживали часы у туалетных столиков, советовались с портнихами, покорно подчинялись рукам искусных куаферш, выбирали наряд на сегодняшний день, чернили брови, багрянили губы, наводили румянец на щеки. Это тоже была работа, и не легкая, требовавшая знаний, терпения и много времени.
Потом подходил час трапезы, соединявший отдельные группы за общими столами, за которыми еда оживлялась остроумной беседой, а может быть, музыкой и пляской выученных для того рабынь. Еще после наступал час визитов; изысканно разодетые щеголи, напомаженные, надушенные, с модными, тщательно завитыми локонами, теснились вокруг прославленных красавиц в «салонах» лабиринта; велись живые, светские разговоры, обильно приправляемые клеветой и сплетнями. Наконец, спускалась душная южная ночь, шумы дневной суеты затихали, обитатели лабиринта расходились по своим комнатам, чтобы отдохнуть, кто от тяжкого труда подневольных рабов, кто от утомительных забот светской жизни, с ее сложными правилами этикета и хорошего тона. Тогда богиня любви, та самая, которую эгейцы изображали, как позднее эллины, с двумя голубочками на плечах или над головой, – крыла своим благословенным плащом те и другие опочивальни безмерного дворца и нашептывала над ними свои чудесные заклинания, так сходно звучащие на всех языках во все эпохи земли. И, сорок пять столетий тому назад, как и в наши дни, свершались под этот шепот, под покровом этого плаща, великие таинства страсти, разрешавшие все волнения, тревоги и муки, которые накопились в сердце за долгий день. И в эти часы, в эти мгновения, исчезали всякое различие между современным человеком, с его телефонами, аэропланами и кинематографами, и обитателем критского дворца, привыкшим к «скачкам быков», к изысканным вазам, ко всему обиходу жизни в запутанно-торжественном лабиринте…
Проходили дни, проходили годы, столетия и тысячелетия, на Крите, купающемся в светлых волнах Эгейского моря, все шумела, справляя радостный праздник жизни, великолепная столица могущественного миноса, дворец-диво, город-чудо, и не могли бы его обитатели поверить, что наступят века, когда ученейшие люди нового человечества усомнятся в самом существовании Кносского лабиринта.
3. Хозяева лабиринта
Тот образ хозяев лабиринта, какой выступает перед нами из одного внимательного рассмотрения критской столицы, подтверждается документальными данными: фресками, эгейскими и египетскими, статуарными изображениями, рисунками на саркофагах, на вазах, на геммах, на разных других предметах. И мы вправе привлечь для такой общей характеристики жителей лабиринта не только памятники критских городов, но и археологические находки в других частях эгейского мира, даже за его пределами. При всем различии, какое представляют памятники эгейской жизни разных эпох и разных местностей, все они остаются свидетельствами об единой эгейской культуре. За 25 веков своего существования она не могла не видоизменяться, и весьма существенно; она не могла не представлять большого разнообразия и не иметь характерных местных отличий на протяжении от Южной Италии (где были колонии эгейцев) до побережья Геллеспонта, от Южного берега Крита до северных областей материковой Греции. Однако все эти изменения и различия сохраняют некоторое внутреннее единство, как это сохраняет, например, новоевропейская культура, при всех особенностях культур французской и русской, английской и испанской. Эгейские памятники – черенки драгоценной вазы, которая разбита вдребезги, но была когда-то цельным, совершенным сосудом. Хозяева лабиринта были высшим воплощением типа эгейца – вообще: что является разрозненным и случайным в других местностях и в другие века, то было соединено и отчетливо выражено в жизни критских столиц, в период их полного расцвета, в начале 2-го тысячелетия до P. X.
Разумеется, говоря о «хозяевах лабиринта», приходится иметь в виду верхний слой эгейского общества. Только об его представителях с достаточной полнотой свидетельствуют дошедшие до нас памятники; только в жизни свободных и знатных людей могли, по условиям времени, ярко отразиться основные черты народа; наконец, резкое деление на классы, даже, быть может, на касты – характерно для всей Эгейи. Ниже этого слоя стоял класс купцов и промышленников, о которых мы еще можем составить себе довольно определенное понятие. Но многое в их жизни и психологии выясняется, само собой, из характеристики аристократии: ведь торговля и промышленность служила, прежде всего, ей, руководствовалась ее вкусами, удовлетворяла ее требования. Еще ниже следовала масса «простого народа», уже плохо различимая, при современном состоянии наших знаний, и, наконец, масса рабов, сливающаяся в одно неопределенное пятно, без индивидуальных черт, сходная с такими же рабскими массами иных эпох и иных стран, да, вероятно, и состоявшая из представителей иных национальностей. В конце концов, истинными представителями эгейского мира остаются для нас «цари и герои», а среди них именно «цари» лабиринтов и «герои» критских столиц.
Ученые до сих пор спорят, каково племенное происхождение эгейцев. Пока мы можем оставить в стороне противоречивые решения этого вопроса, сказав, что всего правдоподобнее и осторожнее относить эгейцев к арийской расе, европейского, но не эллинского типа. Такими вырисовываются большинство лиц на фресках, где эгейцы изображали сами себя и где их изображали египтяне, определенно их отличая от своего национального, семитического типа. Таково, например, лицо полуобнаженного юноши, несущего длинный и тонкий, серебряный с золотой оправой сосуд, изображенного на фреске в одном коридоре Кносского лабиринта.
«Тип благородный, чисто европейский, но не греческий, с правильными чертами и чистым профилем, высокий, бракикефальный череп, черные курчавые волосы, смуглая кожа, темные глаза», – так описывает это лицо один из исследователей (проф. Б. Фармаковский). Такие лица и поныне встречаются на Крите, в горных областях и на побережьях. Юноша строен, его осанка благородна, движения полны изящества, хотя, может быть, он не принадлежал к знати, судя по его занятию и отсутствию локонов[21 - Воспроизведение этой фрески – у Фармаковского, в альбоме Винтера и в большинстве иллюстрированных работ об Эгейе.]. Того же характера большинство других лиц, мужских и женских. Везде перед нами, несомненно, европейцы, но не эллины, люди, которым многовековая культура положила на лица отпечаток утонченной сознательности.
Изображения женщин останавливают, прежде всего, своими одеяниями. Мы видим не народные национальные костюмы, только сделанные более богато, из лучшего материала, и не одежды, приспособленные к тем или иным потребностям жизни, а характерные создания тиранической моды, мало считающейся с условиями действительности. Туалеты эгейских женщин, «хозяек лабиринта», подчинены одному закону: красоте. Дамы в критских дворцах одевались так, чтобы согласно со своими представлениями о прекрасном и изящном радовать взоры окружающих и, вероятно, даже изумлять их. Так одеваются и современные дамы, выезжая на бал, на премьеру, на пышный вернисаж. Многие изображения эгейских женщин прежде всего приводят на память, – что и было не раз отмечено, – картинки современных модных журналов. Одно из таких изображений слывет среди исследователей эгейской старины под многозначительным названием «парижанка». Между тем изображение это относится к началу 2-го тысячелетия до P. X. Париж XX в. по P. X. и Крит XX в. до P. X. как бы совпадают в туалетах представительниц своего «большого света».
Особенно любопытны две фаянсовых статуэтки, одна – найденная в Кносском лабиринте, другая – в Петсофе, на Крите же[22 - Воспроизведение – там же.]. Некоторые полагают, что эти статуэтки дают наряд жриц, женщин при исполнении какого-то религиозного обряда. Есть много оснований не соглашаться с таким объяснением[23 - На кносской статуэтке религиозным атрибутом еще можно признать змей на шляпе; петсофская лишена малейшего указания на какой-либо культ. Если бы предположение не было слишком произвольным, мы скорее предположили бы в петсофском изображении – маскарадный костюм, вдобавок, быть может, утрированный художником. Почему в лабиринтах не могли устраиваться празднества, на которых участники «костюмировались», одевались почуднее или в костюмы старинного покроя? И почему эгейский художник не мог создать карикатуры на такое празднество? Впрочем, все это – чистое предположение.]. Но, независимо от решения вопроса, костюмы, изображенные на статуэтках, остаются крайне поучительными. Не так важно, надевала ли свой исхищренный туалет эгейская дама, чтобы присутствовать на пиру или на балу, даваемом в лабиринте, или чтобы выполнить некую культовую церемонию, может быть, давно утратившую прежний смысл и превратившуюся тоже в повод к празднеству. Так, в наши дни надевают роскошные платья, в католических странах, девочки для первого причастия, у нас женщины – для пасхальной заутрени, везде невесты – в день свадьбы, чтобы «стоять под вендом». Важно то, что подобные платья шились и надевались, что в них находили красоту, по меньшей мере – торжественность. Кроме того, свидетельства двух статуэток подтверждаются другими, где находим сходные элементы туалета, так что многое в нем можно считать достаточно распространенным.
Петсофская статуэтка стилизована (как большинство созданий эгейского искусства), кажется, даже несколько утрирована. Костюм состоит из широчайшей юбки, на металлических или костяных обручах, и баски, с далеко отогнутым назад воротником a la Marie Stuart и с декольте, оставляющим обнаженной всю грудь. По талии перекинут широкий пояс, обернутый два раза и спереди спадающий длинным концом, с бантом внизу, почти до уровня щиколотки. По юбке идут полосы другого цвета, накладки другой материи, образующие «елочки», расходящиеся от трех вертикальных, параллельных полос.
Двигаться в таком платье было никак не удобнее, чем в самых предельных по размерам кринолинах наших бабушек. Прическа у фигуры – целое сооружение из волос, в виде громадного рога, загнутого вперед и раскрашенного в две краски, двумя поперечными полосами.
На кносской статуэтке – туалет иного типа, вероятно, другой эпохи. Юбка гораздо уже и кроена прямыми линиями (тогда как «кринолин» изогнут в форме бочонка). Зато юбка богато украшена: покрыта большим числом поперечных полос, что означает, несомненно, ряд складок, находящих одна на другую (такой фасон отчетливее виден на некоторых других изображениях); внизу, по подолу; идет красивая прошивка с узором. Верхняя часть тела одета в то, что у наших модниц называется теперь «туникой» («тюник»): кофточку, которая, спереди и сзади, до начала ног, спускается овальными фартучками, а по бокам поднимается к талии; по краям фартучки тоже обшиты прошивкой, с иным упором. Грудь опять глубоко декольтирована; рукава короткие, не доходящие до локтя; талия крайне перетянута каким-либо родом корсета. На голове кносской статуэтки высокая шляпа, в три яруса, со змеями, под которой особый платок, закрывающий уши и Сходные туалеты мы видим на других статуэтках, на фресках, на разных рисунках. По-видимому, в Эгейе долго держалась мода, побуждавшая женщин украшать свои юбки несколькими горизонтальными полосами складок и оборок: иногда вся юбка состоит из ряда (например, шести) складок, находящих одна на другую, словно бы был надет ряд юбок, одна короче другой; иногда от подола вверх идет ряд оборок, которых можно насчитать до десяти. Точно так же верхняя часть костюма часто спускается, спереди и сзади, в виде современной «тюник», закрывая весь живот или и еще ниже до самого подола; такие «тюник» бывают одинарные и двойные, кроенные овально и углом и т. п., может быть, согласно с капризами моды. Грудь большею частью открыта больше, чем то допускается по современным понятиям. На других изображениях, вероятно, позднейшей эпохи, например, на саркофаге из лабиринта в Агия-Триаде, видна другая мода. Длинные юбки заменяются короткими, позволяющими высоко видеть ноги, как то принято в наши дни: подол или прямой, с несколькими рядами прошивок, или скругленный, с маленьким разрезом сзади. Изменяется и прическа: вместо монументальных сооружений из волос, являются завитые локоны, с умышленной небрежностью, низко разложенные по голове: вьющиеся кудряшки спадают на лоб, а более длинные пряди спускаются до плеч; иногда прическа дополняется лентами, спущенными на спину и по сторонам[24 - Впрочем, ленты в прическе женщин найдены пока только на изображениях тиринфского дворца; аналогий в критских памятниках неизвестно.]. Вообще, история женских мод в Эгейе, по своему разнообразию, могла бы составить предмет особого исследования.
Фрески знакомят нас еще с одной деталью эгейского женского туалета: на них, нередко, отчетливо видна искусственная раскраска лица. Эгейские модницы подводили себе брови, ярко багрянили губы, несомненно, румянили щеки, подкрашивали, кажется, и другие части тела: например, клали пятна кармина на грудь (что особенно явно на одной кносской фреске). Очень вероятно, что и волосы окрашивались в желаемый цвет. У петсофской статуэтки волосы резко раскрашены; на саркофаге из Агия-Триады, у одной из участниц совершаемого обряда, – светлые, льняные кудри, что вряд ли могло быть естественным среди эгейских женщин, сплошь брюнеток. Этому соответствует большое количество найденных при раскопках флаконов и ларчиков для благовоний и притираний. Меньше знакомы с женской обувью: но кое-где видны изображения изящных сандалий-туфелек.
Остается добавить, что эгейские женщины широко пользовались украшениями из золота и серебра с драгоценными каменьями: браслетами, ожерельями, серьгами и т. д.[25 - Воспроизведение упомянутых изображений см. там же. Саркофаг из Агия-Триады воспроизведен в красках, в альбоме Винтера.].
Все такие наряды могли создаваться никак не для жизни, занятой домашними работами и присмотром за хозяйством. Это – не туалет жены-матери, кормящей и воспитывающей детей, готовящей обед мужу, хлопочущей на кухне и в огороде: в такой одежде не могла бы царевна Навсикая стирать свое царское белье. Это «костюм для выездов» или «роскошный бальный туалет», как теперь подписывают под рисунками в модных журналах. Изображения эгейских дам эпохи расцвета лабиринтов подразумевают существование многого, без чего были бы немыслимы даже в воображении художника. Такие изображения подразумевают резкое деление общества на классы, так как не всем же в народе была доступна беспечная жизнь модниц; затем, – особый уклад жизни, позволявший женщинам отдавать много времени заботам о своей красоте, обеспечивавший такое времяпрепровождение; наконец, – развитые светские отношения, публичность собраний, празднеств, выездов, на которых женщины могли блистать своими нарядами в мужском обществе.
С другой стороны, такие туалеты подразумевают существование в Эгейе, в ее лучшие годы, высокоразвитой промышленности.
В самом деле: чтобы создать кносские, петсофские и агия-триадские туалеты, в Эгейе должны были существовать фабрики, выделывающие изящные и разнообразные ткани и окрашивающие их в разные цвета; мастерские, вырабатывающие мелкие части женского туалета – ленты, кружева, прошивки, кисти, шнурки, тесемки и всякие другие предметы «галантереи», не говоря уже о нитках, иголках, булавках и т. п.; белошвейки, привыкшие к тонкому материалу, модистки, изготовляющие модные шляпы, башмачники, тачающие красивые сандалии и башмачки, корсетницы, вязальщицы, гофрировщицы, плиссировщицы и т. д.; парфюмеры, поставляющие всякие ароматы, духи, помады, белила, румяна, краску для волос; ювелиры, оправляющие самоцветные камни в золото, продающие браслеты, диадемы, ожерелья, цепочки и другие украшения; также много других мастеров-профессионалов, работа которых чувствуется за изысканной внешностью эгейских дам, начиная с искусных портних и портных, своего рода «Пакенов» и «Бортов» критского мира, кончая, может быть, поставщиками искусственных локонов и поддельных икр. В тоже время, «на дому» у модниц чувствуется присутствие вышколенных горничных, одевавших, обувавших и затягивавших свою госпожу, куаферши, создававшей ее монументальную или намеренно небрежную прическу, массезы, помогавшей пропитывать тело благоуханиями, может быть, даже «маникюрши» и «педикюрши». В других же комнатах должны были иметься кормилицы и няни, воспитывавшие детей вместо матери.
Весь туалет эгейской модницы требовал целых часов, проведенных за туалетным столиком, перед зеркалом, при содействии целой толпы рабынь. И, конечно, затянутая, расфранченная, надушенная красавица не могла и думать о том, чтобы пойти куда-нибудь пешком или заняться каким-нибудь делом. Если и не приходилось ей распорядиться, чтобы шофер немедленно подал собственный автомобиль, то к услугам ее, наверное, были крытые носилки, с мягкими пуховыми подушками и кисейными занавесками. Покачиваясь на плечах дюжих рабов, с милой улыбкой отвечая на приветствия встречных знакомых, придворная львица XX века до P. X. отправлялась, вероятно, на другой конец лабиринта, на jourfixe к своей подруге-сопернице.
Там, среди столь же расфранченных дам и столь же изысканно одетых кавалеров, в гостиной, украшенной фресками и горельефами, уставленной дорогими вазами и ценными безделушками, велась летучая болтовня, обменивались светскими новостями, остро злословили об отсутствующих друзьях… Если бы современная парижанка понимала язык эгейцев, она, вероятно, почувствовала бы себя дома в салоне лабиринта.
Эгейские кавалеры были достойными партнерами этих модниц. С костюмами мужчин ближе знакомят нас фрески Тиринфского дворца, – живопись, открытая в последнее пятилетие (1911–1910 г.). Исполненные техникой al fresco, с красной раскраской по голубому фону, эти рисунки, как обычно у эгейцев, несколько стилизованы, но все же правдивы и заключают в себе много чисто реалистических черт. Тиринфские фрески относятся ко времени более позднему, чем рассмотренные раньше, но их показания пополняются отдельными свидетельствами из лабиринтов и египетской живописи. В основных чертах тиринфские фрески совпадают с кносскими. По-видимому, в Тиринф моды приходили с Крита, и мы вправе поэтому тиринфские показания распространить на жизнь в лабиринтах. Те черты изысканности и утонченности, какие мы находим в Тиринфе, должны были еще в большей мере существовать в кносском дворце.
В более древней части Тиринфского дворца сохранился фрагмент фрески, изображающий двух идущих мужчин. Их головы обнажены и волосы тонко завиты локонами, ниспадающими на плечи, – мода, которая особенно долго, целые столетия, держалась в эгейском мире; одежда – хитоны с короткими рукавами, охваченные по талии поясами, концы которых спущены до середины бедер. В правой руке у каждого – по два копья. И костюм и убор головы показывают большую заботу о туалете. Это своего рода «петиметры» старого французского двора, для которых неудачно надетый пояс мог составить чуть ли не несчастье всей жизни. По технике исполнения, по характерному перегибу назад верхней части тела, по стилизации рисунок очень близок к кносским образцам. Кроме того, совершенно такое же одеяние мужчин мы находим в рисунках на кубках, найденных в лабиринте. Следовательно, так же приблизительно одевались и «хозяева лабиринта».
В более новой части Тиринфского дворца открыты остатки фриза, изображающего охоту на кабана. Фриз уцелел в значительной своей части, так что можно восстановить всю композицию. Участие в охоте принимают как мужчины, так и женщины[26 - Эгейские художники, как египетские, употребляли условно различные краски для изображения тела мужчин (бурая) и женщин (белая).]. В центре композиции – затравленный кабан, окруженный собаками, кабан, к которому устремляются охотники и охотницы; далее – слуги, держащие других собак на сворах; на краях фриза – колесницы, с лицами, не принимающими непосредственного участия в охоте и являющимися только зрителями и зрительницами. Внешний вид участников – тот же, как на фреске с идущими мужчинами: опять хитоны с короткими рукавами, опять длинные, тщательно завитые локоны. Один из охотников, красивый юноша в таких же, щегольски закрученных локонах, подступив близко к зверю и театрально изогнув тело, наносит последний удар копьем. Форма стоящих по сторонам колесниц – легкая, изящная, с разукрашенными колесами о четырех спицах. Кстати сказать, точно такие же колесницы изображены на гробнице в Агия-Триаде, что дает липшее право распространить тиринфские изображения на жизнь в лабиринтах[27 - Описание фресок тиринфского дворца основано на статье Л. Захарова («Гермес» 1912 г., № 13), излагающего доклады К. Muller, G. Ropenwaldt и Е. Waldmann.].
Все характерно в этом фризе: и манера его художественного исполнения, и содержание композиции. Рисунок стилизован, образует некоторое графическое целое: телам и рукам охотников приданы красивые изгибы, дающие графически приятную для глаз линию; размещение фигур изысканно, с намеренным нарушением полной симметрии. Характерно участие в охоте женщин, которые не только остаются ее зрительницами, но, как истинные спортсменки наших дней, и сами берутся за копье. Характерны колесницы, явно предназначенные не для тяжелых переездов, а для катанья по нетрудным дорогам, где не могут поломаться их хрупкие колеса с разукрашенными ободами. Наконец, характерны костюмы и позы охотников, особенно юноши, поражающего зверя. В таких локонах, в хитоне с хитро завязанным поясом, в тесных полусапожках, нечего было и думать о серьезной борьбе с кабаном. Зверь, несомненно, был сначала измучен, загнан, затравлен слугами, как то делалось для изящных кавалеров-охотников при дворе Людовика XIV: от участников требовалась только красивая поза и спортсменское умение. То был пережиток настоящей охоты, нечто вроде стрельбы по тарелочкам в современной Англии. Суровая забава охоты превращена в безопасную partie de plaisir.
Заключительные штрихи к этим наблюдениям дают рисунки египетские. Египтяне, как мы увидим далее, рано познакомились с эгейцами, которых называли народами кефтиу, кефтийцами, и оставили их изображение на многих из своих памятников. Это уже свидетельства со стороны, свидетельства беспристрастных наблюдателей, у которых не было причин прикрашивать действительность. Кроме того, всеми признанная наблюдательность египетских художников, их традиционное умение схватывать «натуру», подмечать все самое характерное и выражать его метко, в немногих чертах, позволяют отнестись с особым доверием к рисункам египтян. И что же? Глядя на египетские изображения кефтийцев, тотчас и легко узнаем знакомые типы с памятников Кносса, Агия-Триады, Тиринфа. Таковы изображения в гробнице Сенмута, архитектора царицы Хатшепсут (XV в. до P. X.), в гробнице Рекмара, первого министра фараона Тутмоса III (1501–1447 г. до P. X.), в гробнице сына Рекмара и его преемника по должности, Мен-капр-ре-сенеба, в гробнице Аменехмеба, в пирамиде Сенусерта II и др. В гробнице Рамсеса III (1198–1167 г. до P. X.) изображены, между прочим, и корабли кефтийцев.
Интереснейшая из этих картин та, где кефтийцы, т. е. эгейцы, вероятно, именно критяне, изображены приносящими дань фараону (фреска из могилы Мен-капр-ре-сенеба)[28 - Описание фрески основано на статье А. Захарова («Гермес» 1911 г., № 1), пользовавшегося цветными воспроизведениями в II томе труда М. Muller, «Egyptological Researches», Washington, 1910. Красочные воспроизведения фресок из гробницы Рекмары в I томе того же труда (Washington. 1906). Другие воспроизведения египетских изображений народа кефтиу – в специальных изданиях и в более доступных книгах Lagrange, Hall и др. (о которых см. ниже).]. Мы видим те же лица, как на национальных эгейских фресках, определенно не семитического типа. Одежда состоит из широкой повязки на бедрах, богато вышитой, иногда украшенной бахромой; у некоторых широкий пояс вокруг талии, конец которого, с кисточкой, спадает по боку, ниже колен; обувь – высокий, на толстой подошве, сапог из кожи. Верхняя часть тела обнажена. Прическа – опять длинные, может быть, искусственные локоны, мелко завитые, спущенные на плечи тремя или четырьмя прядями; у некоторых вокруг головы тонкая перевязь-тесьма, род фероньерки. (Сходное одеяние встречается на фресках в Микенах; сходная обувь – на фресках в Орхомене; та же прическа на большинстве эгейских фресок.) Руки у послов заняты; у одного в руках – меч, у другого – жезл, у третьего – пояс с кистями; кроме того, большинство (всех сохранившихся фигур – девять) несет дары, кто на особом блюде, кто в свободной руке или на плече. В числе этих даров: характерные «эгейские» вазы, керамические с орнаментом, медная с крышкой в форме головы быка, сосуд с железной головой собаки, серебряная амфора с золотой инкрустацией, а также серебряная голова быка, серебряная статуя быка, бусы, рога каменного оленя и т. п.[29 - Египетские художники употребляли условно-различные краски для изображения различных металлов: для меди – красную, для бронзы – желтую, для железа – голубую. Почти все развитие Эгейи падает на бронзовый век, когда железо еще не вошло в употребление. В Египте изображения железных предметов появляются только на памятниках Нового Царства (с XVI в. до P. X.), но в широкое употребление железо входит лишь в последние века 2-го тысячелетия до P. X.]. Египетский художник придал изображению гостей Египта благородную осанку и красивые позы. Приблизительно так же представлены кефтийцы на фресках в гробнице Рекмары и др.
На многих эгейских предметах сохранились изображения и целых сцен из жизни. В некоторых случаях содержание вполне понятно. Вот (на микенской вазе) марширует строй солдат: они идут нога в ногу, одинаково прикрываясь маленьким щитом, ровно держа копье, в шлемах с развевающимися султанами. Вот (на микенской гемме) пляшущие женщины, изгибающиеся сладострастно и явно выполняющие определенное па. Вот упомянутые нами «скачки с быками» (на тиринфской фреске, на вазе из Вафио и др. предметах), – несомненно, религиозный обряд. Вот борьба на мечах, может быть, двух гладиаторов (микенская золотая пластинка); женщины, приносящие жертву богине (саркофаг из Агия-Триады); поимка быка в большую сеть (золотая ваза из Вафио) и т. п. Другие изображения, особенно на геммах, возбуждают сомнение, что именно дано художником: сцена мифологическая, религиозный обряд или просто жанровая картинка. Обычно в этих изображениях предпочитают видеть выполнение религиозных обрядов; нам же кажется, что часто это просто сцена из домашней жизни. Так, например, иные сцены можно истолковать, как посещение гостьей своей подруги, как прогулку в колеснице и т. п. Но, как бы ни объясняли содержание отдельных изображений, все остаются крайне типичными по отдельным фигурам, по приданным им позам, по представленным нарядам. Везде веет один и тот же дух эгейской жизни, насыщенной условностью, этикетом и стремлением к красоте и изяществу.
Конечно, при характеристике эгейской жизни в Эгейе по памятникам ее искусства, не надо забывать, что эгейские художники были склонны все стилизовать, но и эта склонность, очевидно, отвечает формам самой жизни. Представлены ли эгейцы послами пред иноземным государем, охотниками ли лицом к лицу со зверем, воинами ли, выступающими на смотру, изображены ли эгейские женщины, исполняющими религиозный обряд, или в обстановке повседневной жизни, или, наконец, просто на портретах, – везде оказывается благородство движений, изысканность жестов, какая-то заученность положений тела, головы, рук и ног, что должно быть следствием привычки, переходившей от поколения к поколению. По-видимому, в эгейской мире существовали строгие правила относительно того, как держать себя в обществе, выработанный и застывший этикет при дворе, вроде византийского, общепризнанный и мало изменявшийся кодекс «хорошего тона» в светской жизни. Немного отгибать спину назад, ровно ставить ноги при ходьбе, красивым изгибом поднимать руки или протягивать их с чуть заметным сгибом в локтях, прямо держать голову, чтобы не нарушать расположения локонов, всему этому (отчетливо видимому на фресках и рисунках) эгейские мальчики и девочки должны были учиться с раннего детства. Танцы, вероятно, входили в курс эгейского воспитания, как необходимейший элемент. В то же время человеческие фигуры на большинстве изображений окружены богатством и роскошью, обстановкой, изысканность которой вполне соответствует изысканности движений и поз.
Пробегая глазами ряд сцен этого отдаленнейшего прошлого, самые поздние из которых не выходят за пределы 2-го тысячелетия до P. X., чувствуешь себя в жизни искусственно усложненной, переполненной традициями, красивой в своих внешних проявлениях, созданной вкусом воспитанным и избалованным. Эту жизнь можно назвать праздной, в том смысле, что многим в ней чужды были заботы о «хлебе насущном», непосредственное его добывание, том более – физическим трудом. Но эта жизнь должна была быть наполненной заботами другого рода, – для многих занятиями государственными, для всех интересами духовными, интеллектуальными: вопросами религиозными, философскими, научными, художественными. Не умея еще читать минойские (эгейские) тексты, мы только смутно угадываем чисто умственные интересы эгейцев; но ясно видим, что интересы искусства живо занимали всех. В Эгейе искусство, чистое и прикладное, занимало почетное место, и в искусстве в значительной мере выражалась душа эгейцев. По изображениям на фресках и рисунках мы можем судить о внешности эгейцев; их искусство поможет нам заглянуть в их внутренний мир.
4. Эгейское искусство
Ни в чем не выражается так полно душа народа, как в созданиях его искусства. Народ может заимствовать у соседей орудия для разных работ, научные сведения, политические и общественные установления. Но искусство всегда национально. Даже подражая, народ берет из чужих художественных произведений то, что отвечает его вкусу, его уровню развития. Есть определенное мерило, чтобы решить, какой плуг лучше для обработки земли, какая система счисления удобнее, даже какая форма правления предпочтительнее. Но как обставить свой дом, какие поместить на стенах картины, какие выбрать статуи, на эти вопросы отвечает тот «вкус», о котором, по пословице, «не спорят». Народ говорит: «Мне нравится это, а не то», и такими словами решает весь спор. Пусть художники и ремесленники, подчиняясь чужому влиянию, иноземной выучке, создают произведения, идущие вразрез со вкусами народа: такие произведения недолговечны. Только малое число их сохраняется, и то, если во вкусах происходит соответствующая перемена. Большинство гибнет: стихи забываются, картины разрушаются, золото переплавляют для новых созданий, – в том чудовищном подборе, который совершается рядами поколений, в течение тысячелетий. Из эгейского мира до нас должны были дойти только те вещи, которые были одобрены признанием веков, те, которые отвечали понятиям «народа» (в данном случае высшего его класса, которому только искусство и служило в Эгейе) о прекрасном.
Уже самые лабиринты и дворцы на материке Греции, в Микенах, Тиринфе, Орхомене, были созданиями искусства, – зодчества. В запутанности критских «городов-государств», в роскоши и пышности убранства тронных зал, в киклопических камнях «Львиных ворот» тоже сказался дух эгейского народа, искавшего величия и красоты. Но в самой сущности архитектуры есть нечто, придающее ее созданиям некоторую общность, под какими бы широтами, в какие бы времена и у какого бы народа они ни возникали. Масса и тяжесть, линии и площади, математика и механика – везде одинаковы. Кроме того, лабиринты строились на века: поколения за поколениями сменялись в них, не имея возможности существенно изменять дворец по своему вкусу. Напротив, создания «малого» искусства, особенно прикладного, чутко подчиняются индивидуальным требованиям. Такую-то шпильку женщина выбирает для себя самой, никак не считаясь с веками; такой-то кинжал нравится юноше своей инкрустацией, независимо от того, нравился ли этот узор его предкам; такой-то пояс был исполнен по заказу своего владельца так, как ему хотелось, как это шло к его лицу, к его туалету. «Малые» вещи, которые мы теперь подбираем под холмами наносной земли в Кноссе, в Фесте, в Агия-Триаде, среди каменных груд, оставшихся в арголидских и беотийских дворцах, и на месте священного Илиона, – украшали когда-то салоны и спальни эгейских красавиц и «львов сезона». В этих вещах – затаена душа отдельных людей, являющихся для нас представителями эгейской культуры.
Среди археологических находок в эгейском мире особое место занимают вазы. Их целыми и черепки от них находят в большом количестве на всех местах эгейских поселений. По этим следам всего вернее можно проследить путь эгейского народа в его расселении по земле; эгейцы несли с собой свою «гончарную технику», и каждый этап их продвижения (как полагают, поэтому, из Испании до побережий Эгейского моря) отмечен черепками ваз, оставшимися на местах временных становий. В настоящее время уже возможно восстановить эволюцию вазового искусства у эгейцев от наиболее ранних памятников с преобладанием геометрического орнамента, главным образом зигзага, через позднейшие образцы, когда употребление кисти вызвало переход к орнаменту криволинейному, с особенным пристрастием к спирали, до эпохи высшего расцвета вазовой техники, с многообразием орнамента, образованного из элементов растительного и животного мира, и до последнего периода, когда наступил общий упадок эгейского художества, в том числе и производства ваз[30 - Историческая эволюция эгейской вазовой техники прослежена в работе: Edith II. Hall, The decorative art of Grete in the bronze age. Philadelphia. 1907. (Отчет об этой книге – в «Гермесе» 1910 г.)]. Но для выяснения народного характера, для понимания души эгейцев, их вкусов и их пристрастий, важны, конечно, лучшие из художественных созданий, венцы творчества. Эпоха расцвета вазовой техники, совпадающая с эпохой расцвета лабиринтов, живее всего знакомите внутренним миром «эгейца».
Наиболее замечательны вазы именно критские, особого стиля, называемого теперь камарес(по названию пещеры в горном хребте Иды, на Крите, где впервые были найдены вазы такого типа). Вазы камарес исполнены опытными и искусными гончарами, из хорошо промытой глины, на усовершенствованном, чисто работающем станке. Встречаются, впрочем, вазы не только глиняные и фарфоровые, но также из металлов, из камня, из стекла. Стенки гончарных ваз тонки, линии их четки, рисунок украшений безукоризнен: видно, что мастер достигал того самого, чего хотел. Вазам обычно придана не только изящная, но и изысканная форма. Создавая амфоры, киликти, кратеры, гидрии, лекифы, пелики, скифы, пифы, фиалы и другие формы сосудов, ставшие традиционными у эллинов, эгейские мастера умели достигать бесконечного разнообразия. Некоторые вазы вытянуты, как венецианские бокалы; другие причудливо согнуты, нарушая строго геометрическую точность очертаний; третьи, напротив, совпадают своими чертами с безукоризненно вычерченными кривыми: эллипсом, параболой, синусоидой; есть шаровидные, с узким горлышком над формой мяча; есть остроконечные, которые могли стоять лишь на подставке; есть кувшинчики, рюмочки, леечки, флакончики, баночки и т. д. У большинства прихотливо изогнутые ручки, линии которых дополняют сферический рисунок самого сосуда. Самые пленительные дразнят воображение не совершенной гармонией фигуры, а сознательным уклонением от полной правильности форм.
Гончарные вазы камарес обычно лакированы и покрыты сложным писаным орнаментом или целыми миниатюрными картинами (тогда как на более древних вазах орнамент гравированный). Раскраска то белая (как и на древнейших), то желтая, то оранжевая, то красная – разных оттенков по черному фону, реже – темная но светлому. Всего типичнее орнамент, где преобладают спирали и другие кривые (линии), но встречаются также звездочки, прямоугольники, зубцы, ромбы, затем – стилизованные элементы растительного и животного мира, наконец, реалистические фигуры, в том числе и человеческие. Иные орнаменты, по смелости и прихотливости линий, кажутся произведениями самого последнего времени, той, еще не вполне изжитой эпохи, когда в искусство вторгся style moderne, по-новому изогнувший наши пепельницы и разрезальные ножи, изменивший узоры наших обоев и неожиданными завитками закруживший бордюры театральных афиш. И вообще, вазы камарес, и своими формами, и своим орнаментом, чаще всего напоминают изделия нового времени, обложки современных книг, выставки немецкого сецессиона, копенгагенский фарфор, проявляя только несомненно большую силу художественной оригинальности и творческого напряжения.
Вот, например, по стороне вазы, от горлышка, но не доходя до низу, сбегает круговая линия, почти (но не вполне!) совпадающая с правильным кругом; внутри круга вписаны другие кривые, неполными спиралями касающиеся окружности, выходящие из одной точки и направленные под разными уклонами; низ вазы украшен параллельными поперечными полосами; свободное пространство в круге оживлено звездочками и пальметками. Или вот со дна шаровидной вазы дерзко вскидываются к ее середине лучевые линии, заканчивающиеся широким, вытянуто-округлым пятном, подобием огромного вопросительного знака, а сверху вазы из сплетения круговых линий получаются, идущие навстречу, секирообразные полушария. Или вот из резко-стилизованных листьев и цветов получается сложный узор, заполняющий всю поверхность вазы, образующий вогнутые ромбы, ограниченные вытянутыми кругами, причем внутренность и кругов и ромбов, в свою очередь, заполнена комбинацией из пяти звездочек, составляющих пятиугольник. Во всех этих линейных орнаментах поражает умение заполнить пространство, дать впечатление сложности при помощи самых простых, в сущности, элементов. Глаз сначала видит определенный узор, потом, пытаясь вникнуть в его систему, запутывается безнадежно; лишь после, усилием мысли, удается восстановить сложно простое построение.
Еще изумительнее орнаменты с элементами растительного и животного мира, заставляющие вспомнить японскую живопись и наше «декадентство», во многом ей подражавшее. Вот стилизованные линии, сходные с традиционными «лилиями Бурбона»; вот упрощенные цветы папируса; вот условно изображенные лотосы, «ампирные» лавровые венки, скромные девичьи веночки; вот совсем фантастические растения, стебли которых лучеобразно вырастают со дна вазы, чтобы завершиться у ее верха симметрично поставленными символами цветка… На других вазах – стилизация низших морских животных: раковины, улитки, полипы; далее – изображения рыб, дельфинов, птиц; наконец, – фигуры четвероногих, особенно быков, и человека; формы растений и животных переданы условно, не ради реалистичности изображения, но исключительно ради красоты линий, образующих орнамент. Бывают и целые рисунки: какие-то сады спутавшихся между собой растений, садки морских чудищ, переплетающихся хвостами и плавниками, сцены, взятые с арены цирка… Но во всех случаях художники, расписывавшие вазу, не упускали из виду своей основной цели: украсить орнаментом сосуд; рисунок всегда остается в подчинении у формы вазы, следуя за ней и пополняя ее. По гармонии орнамента с формой сосуда лучшие эгейские вазы могут смело спорить с прославленнейшими созданиями Бенвенутто Челлини, Бернара Палисси, копенгагенской фабрики; вазы этрусские остаются далеко позади[31 - Изображения описанных ваз – в труде Б. Фармаковского, в альбоме Винтера и др. сочинениях об эгейской культуре.].
Те же свойства орнамента – неисчерпаемое разнообразие, создаваемое из простейших элементов, умение заполнять пространство, графическая красота целого, стилизация образов природы и подчинение украшений общему замыслу мастера, – мы находим и на других эгейских изделиях: в орнаменте на стенах и на саркофагах и в орнаментации различных мелких предметов. Наконец, эти свойства сказываются и в тех произведениях искусства, которые не могут быть отнесены непосредственно к орнаментальным: в живописи и даже скульптуре; и в них эгейцы склонялись к стилизации и графической красоте. Вот, например, два дельфина, написанные на стене Кносского лабиринта, один над другим; верхние плавники нижнего сближены с нижними плавниками верхнего, хвосты обращены в разные стороны, телам придан небольшой наклон в противоположном направлении; в целом получился как бы единый контур, не уничтожающий реалистической правды в изображении животных, но прекрасно графически и орнаментально заполняющий данное художнику место. Еще замечательнее такой же прием в рисунке на фаянсовой пластинке, найденной также в Кноссе: изображены морские животные; в центре две летучих рыбки, – их раскинутые плавники живописно заполняют всю середину рисунка, а изгибы тел образуют две не вполне параллельные кривые, которые зритель невольно продолжает, как две пересекающиеся спирали; боковые стороны рисунка заняты раковинами, спиральные завитки которых гармонируют с линиями рыбьих тел, а вместе с тем составляют естественную раму картины; кое-где добавлены пятна других ракушек, дающих красивые перекрещивания линий. К этому рисунку приближается, по замыслу, стенная живопись, найденная на Меле (Мелосе), где орнаментация достигнута изгибами летучих рыбок в разных направлениях[32 - Воспроизведения там же.].
Стремление к графической красоте замечается у эгейцев и в изображении отдельных фигур или целых сцен из жизни. Фреска из Кносского лабиринта, изображающая обнаженную женщину, как будто совершенно чужда орнаментальных задач; однако, вычерчивая строгий контур тела, художник больше считался с красотой кривых линий, нежели с анатомией. То же должно сказать о женской головке, оттуда же, исполненной той же характерной для эгейцев техникой: контуром, со слабым выявлением рельефа; это опять дает простор красивому сочетанию линий, которые были бы затемнены сильной рельефностью портрета. В любом эгейском рисунке чувствуется то же пристрастие к графической красоте линий. Наклоны тел, повороты шеи, движения рук, расстановка ног в фигурах, все это имеет в виду не фотографическую верность природе, но графическую красоту; она дополняется и изображением обстановки. Там красота линий достигнута симметрией или тонкой асимметрией в расположении фигур; там – стилизацией образа животного или человека; там четырьмя штрихами вожжей, проведенных параллельно; там 16-ю линиями ног у кобылиц с жеребятами, там еще – комбинацией этих двух элементов, – вожжей и ног, – трактованных, как линии, и т. п.[33 - Воспроизведения там же.].
Графика у эгейцев простирает свою власть даже на скульптурные произведения. Несомненно графичен рассмотренный раньше фриз из Тиринфа, представляющий охоту на кабана. На кинжале, найденном в Микенах, изображена инкрустацией охота на львов; суживающееся лезвие ограничивало художника определенным пространством; тем не менее мастер сумел искусно заполнить его и с большой находчивостью, вместо того, чтобы уменьшать фигуры по мере их приближения к острию (что встречается на некоторых эллинских изделиях), придал им соответствующие позы, заставив бегущих животных вытянуться в одну тонкую полосу[34 - Гальванопластическое fac-simile в Московском музее Изящных искусств (Александра III). В альбоме Винтера – красочное воспроизведение.]. На золотом бокале из Вафио чеканные фигуры быков исполнены вполне реалистично; но ряд фигур, обходящих весь сосуд, все же образует графически прекрасный орнамент. То же самое видно на большинстве чеканных произведений, инкрустированных предметов, на стенных рельефах и даже в цельных скульптурах. Такова, например, очаровательная фаянсовая группа из Кносса, представляющая козу с козлятами. Тела детенышей вытянуты мастером даже не вполне естественно, так чтобы получить изысканные кривые, венчаемые наверху волнообразной линией, которую образует рог козы-матери[35 - Воспроизведено в альбоме Винтера.].
В некоторой связи с пристрастием к графике стоит любовь к гротеску. Многие художественные произведения эгейцев представляют несомненную утрировку; утрированы разные предметы обихода, цветы, животные и особенно человеческие образы. Мы находим настоящие карикатуры: непомерно маленькие тела с огромной головой, лица с преувеличенно выпяченными губами, преднамеренно вытянутые затылки, и т. п. Иные из этих шуток художника заставляют вспомнить карикатуры Леонардо да Винчи и создания японцев, этих общепризнанных мастеров гротеска. Карикатурными гротесками являются и те загадочные фигурки, которые у исследователей носят обычно название «идолов», грубые и смешные. Наконец, встречаются гротескные изображения и в раскраске ваз, причем особенно часто художники пользовались фигурой спрута восьминога, щупальцы которого давали повод обвить сосуд любимыми кривыми линиями[36 - Воспроизведение – там же. Ваза с осьминогом – у Б. Фармаковского (I, 30).].
Самое характерное изображение спрута найдено в Микенах, в виде золотой безделушки[37 - Гальванопластическая копия – в Московском музее Изящных искусств.]. Эгейский художник тщательно вычеканил из золота это отвратительное морское чудище, не имеющее определенной формы, способное растягиваться и выворачиваться на тысячу ладов, меняясь до неузнаваемости. Изгибы конечностей восьминога позволили художнику использовать красоту кривых линий, завитков и спиралей. Расположение щупальцев скомбинировано так искусно, что все образует одно законченное целое, графически и орнаментально – прекрасное, так как линии заплетены изящно и гармонично, по существу – отвратительное, так как реалистично переданы все особенности животного: присоски на его мясистых лапах, студенистая голова с круглыми выпученными глазами, мешок-тело, являющееся и затылком и желудком вместе. Сочетание красоты и безобразия, драгоценности металла и низменности изображаемого, изощренность замысла и совершенство исполнения делают из этого золотого спрута создание искусства, равное которому трудно подыскать у любого скульптора или ювелира наиболее прославленных эпох творчества. Один этот гротеск доказывает, какими исхищренными ценителями художества были хозяева лабиринта.
Мастерство орнамента, пристрастие к графике, интерес к гротеску – вот показатели той ступени зрелости, которой достигла эгейская культура.
На более ранних ступенях развития художник стремится лишь к правдивому воспроизведению зримого. Первобытное искусство, по существу, всегда реалистично. Уклонения к символике и к условности вызывается в нем не силой, а бессилием мастера. Первобытный художник изображает, например, царя или вождя размерами больше других людей не потому, что такая фигура красивее по своим очертаниям, а по неумению достичь экспрессии «царского» лица или портретного сходства. Точно так же на примитивных рисунках море изображается в виде нескольких волнистых линий только потому, что живописцу не под силу нарисовать целую картину бурной воды. Стилизация у эгейцев совершенно другого характера: это – ступень, следующая за реализмом. Эгейцы стилизуют действительность потому, что в художественных замыслах становятся выше ее. Им важно уже не то, что они изобразят, но как это будет изображено. В самых ранних созданиях эгейского искусства уже замечается это высшее понимание его задач. На Крит, в Грецию, в Троаду эгейцы уже принесли с собой высокое мастерство, пережив период примитивного реализма когда-то раньше, в предшествующие эпохи своей исторической жизем.
Пристрастие к графике является дальнейшим развитием стилизации. Графика есть отвлечение. В природе все – трехмерно и все – так или иначе окрашено. Графика отвлекается от рельефности предметов и от красок, переводит существующее на плоскость и разлагает на линии, в действительности не существующие (ибо линии – только пределы различной окраски). В вазовых рисунках, на фресках, на геммах, даже, как мы видели, в рельефных и скульптурных произведениях, эгейцы стремились к графической красоте целого и отдельных линий. Притом в своих наиболее совершенных созданиях они искали эту красоту в некотором уклонении от строгой правильности. Во многих случаях появляется нарушение геометрической точности фигуры, намеренная асимметрия, желание избежать однообразия и т. д. Так, например, на одной микенской вазе средняя полоса орнамента постепенно расширяется, будучи ограничена не параллельными кругами; три волнистые параллельные линии на одной критской вазе делят ее на две пленительно неравные половины; на одной кносской гемме центральной фигуре соответствуют по краям, слева – здание, а справа – человеческий образ, и т. п. Избалованный вкус уже не удовлетворялся полной гармонией частей.
Интерес к гротеску вытекает из склонности к нарушению гармонии. Красота в безобразии – естественный шаг после красоты в неправильности. Избалованный вкус притупляется и требует пряного; отвратительное кажется тогда предпочтительнее прекрасного. Эгейцы оставили много созданий высокой красоты, проникнутых той гармоничностью, которую мы обычно считаем характерной для эллинского искусства. Искание прекрасных форм тела, подчинение подробностей целому, тонкий вкус в сочетании красок, все это присутствует в эгейском художестве. Но, наряду с этим, эгейцы понимали и любили гротеск, искажение красоты, силу безобразного и отвратительного, что у эллинов отразилось хотя бы в образах хромого Гефеста или «презрительного» Терсита. Надо пройти длинный путь эстетического развития, чтобы найти в безобразии красоту и сделать отвратительное художественным. Гротескные безделушки эгейцев если не «венчают» их искусства, то указывают на его вершины, и чеканный золотой осьминог сверкает на самом верху, над пирамидой роскошных фресок и великолепных рельефов. Гигантские лабиринты заканчиваются маленьким спрутом.
Эгейское искусство открывает перед нами душу народа, – утонченного, избалованного, пресыщенного. Теперь время обратиться к истории эгейского искусства и эгейцев вообще, чтобы увидеть, знаем ли мы, каким путем пришли они к этим вершинам своего творчества. История эгейской культуры должна привести нас к ее истокам.