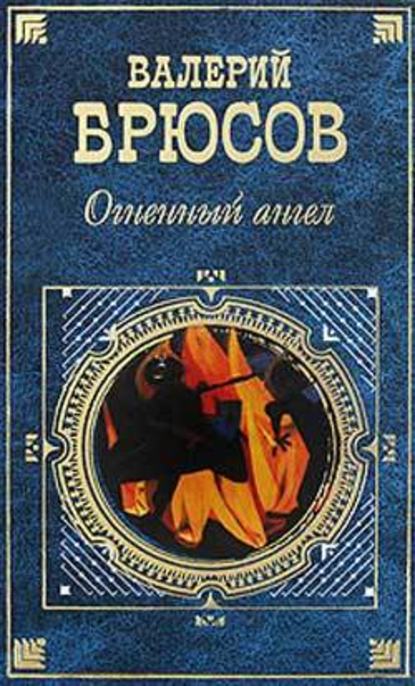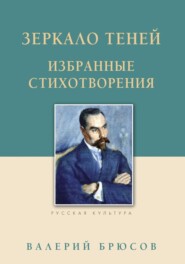По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огненный ангел (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы спросили его: кто он, демон ли? И он отвечал нам, что да. Потом мы спросили, как его зовут, и, перебрав ряд имен и все звуки алфавита, узнали, что его имя Элимер. Потом мы спросили его, знает ли он графа Генриха, и он ответил нам, что да. Мы спросили, в Кельне ли граф Генрих, и он ответил нам, что нет. Мы спросили, приедет ли граф Генрих в Кельн, и он ответил нам, что да. Мы спросили: когда? скоро ли? не сегодня ли? не завтра ли? и узнали, что завтра. Потом, продолжая наши расспросы, мы узнали, что должны ждать графа Генриха завтра вечером, не выходя никуда, в этой самой комнате, что он сам найдет путь к Ренате, что он не забыл ее, не гневается на нее, все простил, любит ее, как прежде, хочет быть с ней.
Все эти ответы были для Ренаты, как слова Спасителя «талифа куми» для мертвой отроковицы. Она тоже ожила и, забыв об усталости, неустанно задавала вопрос за вопросом, почти все об одном и том же, только немного изменяя слова, чтобы слышать еще раз сладкое для себя «да». И когда в утвердительном стуке было для нее особенно много надежды, она с легким стоном, словно в упоении, откидывалась на подушку, на минуту замирала, как после исступленного восторга, и тихо говорила мне: «Ты слышал, Рупрехт, ты слышал?»
Так продолжалось много больше часа, пока стуки, сначала став более слабыми, словно стучал некто утомившийся, не смолкли вовсе. Но и после прекращения их долго Рената не могла успокоиться и, радостная, повторяла, сама себе и мне, свои вопросы и ответы демона, или заставляла их повторять меня, уверяя: «Ведь я знала, что здесь увижу Генриха! Ведь это я чувствовала и говорила! Потому что я пришла к пределу страдания и так томиться больше мое сердце не могло бы!» При этом Рената снисходительно гладила мои волосы и лицо, давала мне целовать свою руку, приникала ко мне, словно приучая себя к будущим ласкам своего возлюбленного, а мне не было другого выхода из моей безнадежности, как слушать ее голос и касаться губами ее пальцев. И это мучительство ее ликования продолжалось далеко за полночь, несмотря на всю нашу усталость, причем я, слушая, как по-детски радовалась Рената, все оставался на коленях у ее постели, так что, когда наконец сказала она мне идти спать, я едва мог стоять на затекших ногах.
Очень понятно, что вторая моя ночь в одинокой моей комнате была ничем не лучше первой, и опять было много причин, чтобы приступом на мою душу шли мысли черные, закованные в железо, с опущенным забралом и взятым наперевес копьем. Вволю предавался я раздумьям и о страшной связи, существующей между жизнью человеков и жизнью демонов, и о новом пути, на который неожиданно свернули события последних дней. Вместе с тем не мог я не опасаться, с крайней тоской, что предвещание стучащего демона исполнится, что граф Генрих на другой день действительно явится к Ренате и что мне тогда уже не будет места близ нее. Эта последняя мысль сгущала всю кровь в моих жилах, и я обмирал пред ней, как под взором василиска.
И вот какую попытку сделал я на следующее утро, сказав себе, что при поражении разбитый должен надеяться только на свою крайнюю покорность и на милость победителя. Когда Рената позвала меня к себе, я произнес следующую речь, обдуманную тщательно и подготовленную вполне:
– Благородная дама! Я хочу высказать открыто то, что, конечно, вы угадали в моем молчании. Не простая услужливость и не рыцарский долг удерживают меня долее близ вас, но нечто гораздо большее, чувство, которого нечего стыдиться ни мужчинам, ни женщинам. Я вам давал клятву быть верным служителем и усердным братом, но я для вас еще всегда останусь благоговейным поклонником. Узнав вас, я понял в совершенстве, что никогда не пожелаю я быть близ другой женщины и нисколько не удерживает меня все то, что вы мне открыли о вашей любви. Ибо я не надеюсь ни на что дерзкое, но более не могу быть без вас и хочу иногда целовать ваши рукава или следить за вашей походкой. Что бы ни случилось, даже если суждено вам стать счастливой, возьмите меня на службу к себе, позвольте быть вашим телохранителем и защищать этой рукой от опасности вас и вашего избранника.
Не скажу, чтобы все до конца в этой речи, немного преувеличенной, было искренно и что я действительно желал бы исполнить сказанное мною, но все же по такому именно склону катились мои думы, хотя и не достигая до дна, – а если бы Рената потребовала осуществления моих обещаний, я, может быть, и исполнил бы воистину все то, что предлагал лишь как на театре. Но Рената, выслушав меня нахмуренно, ответила мне так:
– Ни о чем подобном не смей думать, Рупрехт. Ты – последняя тень этой поры моей жизни, слишком наполненной тенями. Я возвращаюсь в свет, и ты должен исчезнуть, как весь ночной мрак при появлении солнца. Неужели ты думаешь, что, когда со мной будет Генрих, я смогу смотреть на тебя и знать, что ты целовал мои руки и лежал в одной постели со мной? Нет, как только Генрих переступит порог, ты должен будешь выйти в другую дверь, уехать из этого города, уйти в свою неизвестность, так чтобы я не узнала о тебе более ничего и никогда! В этом ты мне должен поклясться крестными муками нашего Спасителя, и если своей клятве ты изменишь, да будет тебе суд строже, чем Иуде!
Тогда я спросил Ренату:
– А что, если утром, выйдя из дома, вы увидите на пороге мой труп и мой собственный кинжал в моей груди? Что вы скажете обо мне вашему Генриху?
Рената ответила:
– Я скажу, что это, вероятно, какой-то пьяный прохожий, и буду рада, когда рейтары уберут тело.
После этого я дал все клятвы, какие она требовала, и уже во всем повиновался Ренате без спора, хотя сам не знал и не желал о том думать, как поступлю вечером. Рената же была, напротив, рассудительна и хлопотлива, как я не ожидал от нее. Она послала меня купить ей платье, так как, кроме того, пышного, которое она носила постоянно, и синего дорожного плаща, у нее не было другой одежды, а также и разных мелких вещей, как для путешествия, так и для украшения лица, видимо, желая воспользоваться всеми средствами, чтобы быть наиболее привлекательной для графа Генриха и наименее ему в тягость. Она обнаруживала великую заботливость и внимание ко всяким мелочам и заставляла меня много раз, несмотря на дождь, не стихавший весь день, возвращаться на рынок и переходить от одного купца к другому.
В таких заботах прошло время до вечера, и не было ничего опущенного к тому часу, когда рано наступившие, вследствие туч, сумерки стали наполнять комнату густой темнотой. Не знаю, были ли похожи мои ощущения на чувства человека, перенесшего в тюрьме пытку и ожидающего определенного часа, когда поведут его на казнь, но мысленно я сравнивал свое положение именно с таким. Я плыл по минутам вниз, как по быстрому потоку лодка, которой не управляет никто.
Едва мрак сгустился ощутительно, как снова послышались постукивания в стену, и Рената с поспешностью спросила – это ли наш вчерашний знакомец Элимер. Был дан ответ, что это точно он. Тогда началось как бы повторение вчерашнего вечера, с той только особенностью, что скоро к одному стучащему демону присоединились другие, которые тоже указали нам свои имена: Риций, Ульрих, еще не упомню. У каждого из них были свои особенности стуков: так, Элимер стучал определенно и четко, Риций чуть слышно, Ульрих такими ударами, что можно было бояться, не разрушится ли стена. Демоны охотно отвечали на все вопросы, сколько то можно было, стуками, и нисколько не смущали их имена святых и самого господа бога, произносимые Ренатою. При этом порою вспыхивали в разных частях комнаты, у пола, огни, как над болотом, и, поднявшись на высоту двух локтей, гасли, расплываясь. Но уже душа моя сама увлекалась ко всему тому, что, по выражению Горация Флакка, scire nefas[60 - знать грешно (лат.).], и даже явные стигматы ада не ужасали меня более и не смущали моей воли.
Ныне я должен сожалеть, что, отважившись на такое сомнительное дело, как сношение со стучащими демонами, не воспользовался я беседой, чтобы узнать что-либо большее об их природе и силе. Но был я в тот вечер, вместе с Ренатою, захвачен ожидаемым приходом Генриха, и не нашлось во мне столько любознательности, чтобы вести длинный допрос. Я успел только узнать, что в их мире есть реки, и озера, и деревья, и нивы; что живут в нем частью дьяволы, сотворенные прежде богом благими, после же отпавшие с Люцифером, а частью – души умерших людей, не достойные ада, но не получившие надежды чистилища и осужденные томиться на земле до второго пришествия; что они всегда рады говорить с людьми, которых видят, как огонек во тьме, но не ко всем могут приступить, а лишь к тем, кто на это способен и кто не закрыт щитом служения богу.
Вот то малое, о чем догадался я спросить. Зато Рената всем из говоривших задавала бесконечное число вопросов, впрочем, опять сводя все их к одному: «Правда ли, что Генрих сегодня придет к ней», – и все отвечающие говорили ей только одно «да». Потом Элимер сказал нам, что ждать Генриха надо в темноте, которая и была вокруг нас; что войдет он ровно в полночь; что сейчас он уже в городе и переодевается. При этом последнем ответе Рената непременно захотела узнать все особенности его новой одежды и без устали поминала все те уборы, какие носил ее Генрих, и также называла все части и принадлежности мужского одеяния и все цвета материй, чтобы мог Элимер простым «да» обрисовать весь образ Генриха. Мы узнали, что на нем зеленый костюм охотника, какой носят в Баварии, с коричневыми застежками, зеленый же капюшон, светлый пояс, унизанный камнями, и синие сапоги.
Потом Элимер сказал, что Генрих вышел из своего дома и идет к нам, что вот он проходит по одной улице, вот по другой, вот подходит к двери нашего дома. Мое сердце билось так сильно, что я слышал его глухие удары, и в последний раз я спросил демона:
– Если граф входит в дверь, постучи три раза.
Раздалось три удара. Я повторил:
– Если граф всходит по лестнице, постучи три раза.
Раздалось три удара. Хриплым голосом Рената сказала мне:
– Рупрехт, уходи и не возвращайся!
Лицо ее показалось мне страшным, и, шатаясь как раненый, я пошел к выходу на галерею, откуда можно было спуститься на двор дома, но, приметив, что Рената не смотрит на меня, вся упоенная ожиданием, я замедлил у двери, ибо неодолимое любопытство побуждало меня хоть раз взглянуть в лицо этого, тогда таинственного для меня, графа. Но проходили минуты, и граф не появлялся, и никаких шагов не было слышно за стеной, и все кругом было тихо и неизменно. Прошло много минут, и осторожно я опять подошел к Ренате, стоявшей у стола.
Задыхаясь, Рената спросила:
– Элимер! Если Генрих близко, ударь три раза!
Ответа не было, и она спросила снова:
– Элимер! Если ты здесь, ударь три раза!
Ответа не было, и с крайним отчаяньем Рената воскликнула третий раз:
– Риций! Ульрих! Отвечайте: придет ли мой Генрих?
Ответа не было.
Вдруг все силы покинули Ренату, и она упала бы на пол, как сраженная пулей, если бы я не подхватил ее. И не знаю, вошел ли в нее тот демон, с которым мы только что дружески беседовали, или давний ее враг, но только вновь был я свидетелем того ужасного мучения, как в деревенской гостинице. Только казалось мне, что на этот раз дух находился не во всем теле Ренаты, но одержал лишь часть его, ибо она могла несколько обороняться, хотя все же тело ее извивалось ужасно, вывертывая члены так, словно кости должны были прорвать мускулы и кожу. Опять не было у меня средств помочь подвергнутой пытке, и я только смотрел на лицо Ренаты, совершенно искаженное, словно бы выглядывал из ее глаз некто другой, и на все чудовищные изгибы ее тела, пока наконец добровольно не отпустил ее демон и не осталась она у меня в руках изнеможенной, как слабая веточка, искрученная в водовороте. Я перенес Ренату в ее комнату, на постель, где она рыдала долго и бессильно, на этот раз в полной немоте, в невозможности вымолвить ни одного слова.
Этим кончился второй день нашего пребывания в Кельне и пятый день моей близости с Ренатой. Эти пять дней, несмотря на множество разнообразных событий, вмещенных в них, остались отчеканенными в моей душе с такой ясностью, что я помню малейшие происшествия, почти все слова, как будто все это происходило лишь вчера. И если бы я не считал нужным быть кратким, ибо описание более поразительных явлений еще стоит предо мною, мог бы я пересказать пережитое мною за это короткое время с гораздо большими подробностями, нежели сделал это здесь.
Глава четвертая
Как мы жили в городе Кельне, что потребовала от меня Рената и что я видел на шабаше
I
Вероятно, не одни только страдания, каким подверг Ренату пытавший ее демон, но также и отчаянье, каким сменились ее обольстительные надежды, сделали то, что она обессилела, словно перенеся долгую и сложную болезнь. Утром, после той ночи, когда тщетно ждали мы графа Генриха, Рената была решительно не в силах подняться с кровати, не могла пошевелить левой рукой и жаловалась, что в голову ее словно заколочен острый гвоздь, – так что пришлось ей несколько дней провести в постели. Мне было большим счастием ухаживать за больной, как служителю в госпитале, кормить и поить ее, как слабого ребенка, оберегать ее усталый сон и искать для нее, в своих скудных познаниях по медицине, облегчающих боли средств. Хотя Рената принимала мои услуги с обычною для нее королевской небрежностью, однако и по выражению ее глаз, и по отдельным словам вправе я был заключать, что она ценит мою преданность и мои заботы, чем был я награжден с избытком за все недавние муки. И после первых пяти дней с Ренатою, напоминавших неутихающий водоворот между скал, настали для меня дни тихие, грустные, но сладостные, так все похожие друг на друга, что можно было их принять за один день, только отраженный в нескольких зеркалах.
Возвращаясь теперь мысленно к тому времени, чувствую я, как птичьи когти тоски сжимают мне сердце, и готов я, с ропотом на Творца, признать воспоминание самым жестоким из его даров. Но все же не могу воздержаться, чтобы не описать, хотя бы кратко, и те комнаты, в которых свершилась вся наша трагическая судьба, и тот склад нашей жизни, который, при всех переменах, сохранялся до рокового часа первой разлуки.
Так как Рената не заговаривала со мною ни о родственниках, которые будто бы были у нее в Кельне, ни о своем желании покинуть меня, то озаботился я устроить ей возможно более привлекательное жилище. Я выбрал для нее ту комнату, из трех, бывших во втором этаже, которую предназначала Марта для самых знатных из своих постояльцев, почему и обставила ее с некоторой пышностью. У правой от входа стены, на небольшом возвышении, к которому должно было подыматься по трем ступенькам, стояла там прекрасная деревянная кровать, с деревянным же, убранным материей, полубалдахином, подушками, обшитыми кружевами, и атласным одеялом. Другим значительным сооружением был здесь камин из цветных изразцов, редкой работы, какую не всегда повстречаешь и в Милане, а у внешней стены был поставлен большой шкап для платья, резной, с инкрустациями. Между окнами помещался красивый стол с изогнутыми ножками, в углу за кроватью – складной алтарь, и убранство комнаты довершали стулья, аналой для чтения и большое итальянское зеркало, повешенное слева от входа. Эту обстановку помню я с отчетливостью крайней, – и сейчас, когда пишу эти слова, мне все кажется, что надо лишь встать, отворить дверь, – и я опять войду в комнату Ренаты и увижу ее, поникшую лицом на точеную доску аналоя или прижавшуюся щекой к холодным, стеклянным кружочкам окна.
Комнату Ренаты от моей отделял узкий коридор, выходивший на крытую галерею, которая окружала половину дома, и с которой по лестнице можно было сойти прямо вниз, не проходя через нижний этаж. Моя комната, отводившаяся Мартой для приезжих менее богатых, была обставлена просто, но все же лучше и приветливее, нежели комнаты в торговых гостиницах. Затем была в нашем распоряжении еще третья, меньшая, комната, совсем отдельная, ход в которую был прямо с площадки внутренней лестницы; этой каморкой мы сначала не думали пользоваться, и я оплачивал ее цену лишь затем, чтобы избежать всякого соседства. Действительно, в уединенном домике, где, кроме нас, жила только Марта, женщина, правда, любившая поболтать, но гостей зазывавшая к себе не охотно, – были мы, даже в шумном и веселом Кельне, обособлены от людей не менее, чем Мерлин в волшебном лесу Вивианы.
Старая Марта была уверена, что я услаждаюсь с молодою женою, и, разумеется, не подозревала вовсе, как странно проходили наши дни. Получая от меня щедрую плату, охотно и заботливо прислуживала она нам, исполняя все мои поручения и заботясь о нашем столе: утром, на завтрак, получали мы обычно яичницу, колбасу, сыр, яйца, печеные каштаны, свежие булки, а вечером, к обеду, – баранину, поросят, гусей, карпов, щук; у меня же при этом всегда была бутылка рейнского или мальвазии. Удивляло Марту, что не хотел я ни с кем возобновить знакомства, и неоднократно уговаривала она меня пойти к престарелому Отфриду Герарду, бывшему моему воспитателю, но я, напротив, строго запрещал рассказывать кому бы то ни было о моем прибытии в Кельн. Впрочем, Марта, кажется, не твердо выполняла мой приказ, потому что порой пытались приветствовать меня на улице люди, в которых признавал я не только прежних собутыльников, но даже магистров университета, – однако всегда давал понять, что поклонившийся ошибся и принял меня за другого.
За время болезни Ренаты и в первые дни ее выздоровления проводили мы с ней целые часы в беседах, и теперь она с охотой слушала мои рассказы о Новой Испании, дивясь, как много пришлось мне видеть в жизни. Иногда ласково касалась она моего лица пальцами, приговаривая, словно обращаясь к малому ребенку: «Какой ты у меня умный и ученый, Рупрехт!» Но долгое время ни одним словом не намекали мы ни на графа Генриха, ни на силу враждебных демонов, грозивших Ренате, и когда, – что случалось несколько раз, – приходилось нам вечером, в темноте, услышать опять знакомые постукивания в стену, спешили мы вздуть огонь и заговорить о другом, причем стуки смолкали сами собой. Бывало, впрочем, что явное присутствие незримых врагов смущало жутким опасением не только меня, но и Ренату, и тогда она не отсылала меня в мою комнату, но позволяла провести ночь вместе с ней, – иногда у подножья ее кровати, иногда опять под одним одеялом, хотя все же, как мужчина и женщина, мы оставались чуждыми друг другу. И я даже находил в этой мучительной близости особую сладость и прелесть, как если бы кто наслаждался глубокими порезами острого лезвия, нечувствительно разделяющего тело.
К самому концу августа Рената поправилась настолько, что мы стали совершать прогулки по городу, большею частью шли на берег Рейна, куда-нибудь вверх по течению, за Ганзейскую пристань, и там, сидя на земле, смотрели на всесильные, темные воды великой реки, неизменные со времен перешедшего их Кесаря, но сменяющиеся каждую минуту. Этот однообразный вид, день за днем, приводил все новые мысли в наши головы и новые слова нам на уста, и наша беседа была столь же неисчерпаема, как сам Рейн, хотя возможно и то, что нам только казалось, будто мы беседуем без перерыва. Во всяком случае, я чувствовал явно, что весь тот хаос всяких знаний и сведений, которые вычитал я из разных книг или собрал в переменах жизни, – теперь, встречаясь то с ясной внимательностью Ренаты, то с ее строгими осуждениями, то с ее проницательными поправками, сплавлялся постепенно в одну громадную, но нераздельную массу, словно бы из расплавленного чугуна выливался стройный колокол, который может звучать гулко и далеко.
Однако, при всей кротости и покорности Ренаты, в ней жила неудовлетворимая тоска, не выпускавшая из своих ядовитых зубов ее сердца, так что, по мере того как крепли силы Ренаты, возрождалось в ней и упорство ее желания, устремленного, как стрелка компаса, все к одной точке. У меня не было иного занятия, как следить за ясностью или облачностью на небосклоне души Ренаты, и скоро подметил я, что зловещие признаки предвещают новый шторм, так как уже не был неопытным плавателем под теми широтами. Тем не менее, хотя и был я предупрежден, гроза налетела опять так стремительно, что я не успел взять рифов у парусов, и галеас моей жизни опять закрутился, как детский волчок.
Еще вечером, засыпая после долгой беседы, в течение которой касались мы всего, от судеб нашей империи до лирических стихотворений испанского поэта Гарчильясо де ла Вега[61 - Гарчильясо де Вега – испанский поэт (1503—1536).], говорила мне Рената нежно: «Милый Рупрехт, наконец я немного отдохнула. Я словно уже умерла и живу второй, сверхдолжной жизнью. Во мне нет крови, и не может быть для меня человеческого счастия; но в этом мире еще есть твоя внимательность и ласка». Убаюкиваемый такими словами, уснул я на деревянных досках помоста, подле кровати Ренаты, слаще, чем иные на пуховых ложах, и, ощущая сквозь сон близость атласного одеяла, говорил себе радостно: «Здесь она!»
Но утром, проснувшись вдруг, как от толчка, увидел я над собой угрюмо-тоскливые глаза Ренаты, сидевшей на постели, и ее искривленный рот и, как-то сразу поняв перемену, происшедшую в ней, воскликнул с отчаяньем:
– Рената, что с тобой?
Так я обратился к ней потому, что она сама просила меня называть ее по имени и говорить ей «ты», как друзья между собою, но она отвечала мне:
– Что же со мною может быть? Ровно ничего – то же, что и вчера!
Я возразил: