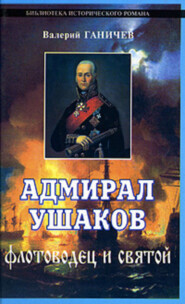По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Росс непобедимый...
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Академик разгорячился, виделись ему светоносные деяния Петра.
– Великая государыня. Предстоит России под твоей десницей столь же славный подвиг совершить, как при Петре. Оный «строитель, плаватель, в полях, в морях герой» возвел Санкт-Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу, как о том говорил итальянец Альгаротти в «Письмах о России». Но негоже светлице с одним окном быть, а наши русские избы все с окном на полудень построены. И оное сотворить надобно, да уберечь от погибели южных россиян и малороссиян, да родственные нам души других стонущих. И не война надобна, а вольность народов этих.
Ломоносов резким жестом, как бы рубя топором, махнул наискосок черноморской полосы. И громко прочитал:
Весь свет чудовища страшится.
Един лишь смело устремиться
Российский может Геркулес.
Един сто острых жал притупит…
Един на сто голов наступит,
Восставит вольность многих стран!
Однако императрица к речениям поэта уже была невнимательна. Она не любила эти проявления возвышенных поэтических восторгов, чувствуя за ними время «Великой Елисавет», которой ей потихонечку тыкали в глаза. Решила прощаться, почти три часа побыла, а в ответ на заверения академика в усердном служении ей и России даже прослезилась, пропустила вызов в печальных и гордых его словах: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». Пригласила к себе «откушать хлеба-соли».
– Щи у меня будут такие же горячие, какими потчевала нас ваша хозяйка.
Перекрестившись усердно, взглянула на портрет Петра и подумала: «Не забыть бы: полуденное окно в Европу…»
ПОКРАСА ГОРОДА
Сашенька Козодоев решил для себя твердо всю жизнь посвятить «архитектуре цивильной», формула которой: «польза, прочность и красота» постигалась им с жадностью и воодушевлением.
Начинал он учебу в «архитекторской команде» самого Саввы Чевакинского, зарекомендовав студентом «удобным к сией науке». Чевакинский дал возможность поучить теорию зодчества великих итальянцев, потребовал, чтобы прилежно относились к арифметике, геометрии и иноземным языкам. Из российского же письма велел штудировать труд князя Долгорукого «Архитектура цивильная выбрана ис Паладиуша славного архитекта и из иных многих архитектов славных… писана в Венеции, лета 1699 году месяца сентября учением и тщением будучи господина князя Долгорукова, а по русскому календару 7206 году» и более новую «Должность архитектурной экспедиции», объединяющую архитектурный трактат со строительным кодексом. День и ночь просиживал Сашенька над книгами, любил перерисовывать с гравюры памятники и другие куншты, а потом обучался делать планы и фасады, ордеры чертить.
Однако учиться дальше не пришлось, заболела матушка, и три с лишним года не учился, а занимался делами хоть и небольшого, но хлопотливого имения.
Но слава богу! Маменьке стало легче, и он снова приехал за «умением» в этот славный Петербург, на этот раз в архитектурный класс Академии художеств.
В небольшой комнате, которую снимал на Васильевском острове, повесил он на стене «Наставление для студентов архитектуры», по которому в первом году обучался ранее. В оном значилось, что перед полуднем арифметике и геометрии теоретической и практической обучаться должен, а также упражняться в рисовании планов, профилей и фасадов. По полудни чертить по Виниоловым и другим правилам столбы. По вечерам вменялось читать то, что днем учили, и читать книги, до сих наук касающиеся. В некоторые дни добавлялось «рисовать с гипсу», моделировать у разных мастеров. А сверх того изучать французский и итальянский языки, читая по вечерам дома авторов на оных языках. Во все свободные часы рекомендовалось ходить в мастерские палаты к художникам всякого звания, а также где палаты строятся для познания всяких материалов.
На другой стенке так, что всегда свет из окна падал как и положено, на муаровой ленте лазоревого цвету в простой раме прикрепил Сашенька знаменитую «Панораму Петербурга» гравера Зубова. Подолгу стоял перед ней будущий архитектор, всматриваясь в диковинный, с многопрофильной крышей дом Голицыной, большой, с трехэтажным центром и боковыми одноэтажными крыльями дворец младшей сестры Петра Натальи Алексеевны, одноэтажный с мезонином, высокий, с изломом крышей и высоким карнизом по центру дворец непутевого сына императора Алексея Петровича, и похожий на этот – дворец вдовствующей царицы Марфы Матвеевны, в котором позднее Растрелли учил своих учеников. Далее видна была часть Фонтанки с Летним садом, в самом центре пышная усадьба Меншикова, одевающаяся в камень Петропавловская крепость с колокольней, здание Сената, дома Гагарина и Шафирова. Да много еще любопытных домов, точных деталей вырезал сей искусный гравер Зубов. Многое уже перестроено, делалась гравюра в 1716 году, но величественный вид гармонии города будоражил Сашеньку, будил в нем высокие думы и воображение, посеянные еще в «архитектурной команде» Чевакинским.
На всю жизнь запомнилась ему короткая, но возвышенная речь сурового Чевакинского, сказанная перед учениками в первые дни занятия.
«Мои други по искусному ремеслу!
Вот вы, наклонные к учению в архитектуре и строительстве, решили стать зодчими России. Земля наша всегда была славна умельцами в градостроительстве, как отечественными, так и иноземными, сообразующимися с сутью нашей жизни и природы. Стародавний Киев-град, Новгород, Владимир, Тверь – чудо-дворцы, древние кремли, крепости, палаты и святые храмы имели, и кои бусурманы не порушили, до сих пор стоят. От оных строений вам в голову и душу планы и ордеры взять многие, ибо они величавы и благолепны. Особливо же наша архитектура цивильная при Великом Петре выросла. Первый русский архитектор Земцов, звание сие заслуживший в канцелярии от строений в Петербурге, его получил в 1724 году. С ним же петровские пенсионеры: Мичурин – московскую школу основавший, Коробов – свою команду создавший при Адмиралтейств-коллегии, а также Еропкин были. Все они и последующую школу российской архитектуры положили, вместе с замечательными итальянцами Растрелли и Трезини.
Зодчий-архитектор, во-первых, свою идею знать должен, ибо строительство он ведет во славу божью, государя, отечества и народа нашего.
Во-вторых, дело зодческое разуметь досконально должен, ибо в архитектуре законов точных немало, ордера свой принцип имеют и мерой обладают. Так, знак доброй архитектуры: ряд, симметрия, евритмия, размер. То есть все здание должно быть сделано по доброй пропорции. А если оная будет разрушена, то все распадется.
В-третьих, он покрасе служить должен. И эта красота здания есть двоякая, одна окраса от места, то есть что такое здание есть сделано, на таком месте, на котором кажется хорошо, а другая окраса бывает от дела архитектуры, то есть что такое здание есть сделано по мере надлежащей».
Чевакинский задумался, тень пробежала по обличью, и продолжал тише:
«Тот, кто думает зодчеством высоких званий достигнуть, или богатство великое накопить, тот зело ошибается. Ибо достойный архитектор за его великую любовь к отчизне нередко гонениям и хуле подвержен. Так, при Бироне, в конце царствования Анны Иоанновны замучили Еропкина, Бланк был сослан в Сибирь. Умер в 1743 году Земцев от тяжкой работы, а Коробов от «всесильного двора» уехал из Петербурга.
Вот каково тем отечественным архитектам, кто идею петровскую в строительстве хотел продолжить, кто традиции российские продолжал и защищал, кто собственное достоинство соблюдал и мнение имел».
«Я – сторонник, – загремел дальше Чевакинский, – «архитектуру цивилис» с «архитектурой навалис», то есть корабельной, соединить, ибо и там и здесь все сотворение разума и мастерства, зодчего и строителя.
Россия – страна морская, и вам еще не раз придется строить корабли и города, верфи и причалы, набережные и пристани. А для сего изучайте архитектуру Петербургского порта, Кронштадта, а также основанный при Петре и разрушенный тогда же зело красивый город и порт на Таганьем Рогу.
Многие считают, что Отечество наше, помимо воли божьей и императорской власти, воином и землепашцем держится, а я бы к сему присовокупил: и зодчего-строителя. Вам же следует укрепить свой разум и сердце трудом, наукой и вечным бдением о благе Отечества нашего. А посему за дела, за дела каждодневно полезные для будущей работы. На пользу всей нашей России».
Сашеньке та речь запомнилась. Вспоминалось, как медленно ходил Чевакинский перед ними и, когда заканчивал фразу, останавливался и рубил указкой для чертежей, как бы отсекая сказанное. С тех пор юный и часто краснеющий студент, за что его друзья и звали не Александром, а на женский манер Сашенькой, загорелся корабельным, портовым, морским строительством. В залах академической архитектурной библиотеки, где хранились чертежи, альбомы, книги, он искал все, что рассказывало о морских городах. И старый библиотекарь из не доучившихся из-за здоровья студентов, видя его интерес, повел его в дальний закуток и вынул какие-то начертанные на листах александрийских чертежи и пояснения.
Сашенька замер: «Исправный чертеж и размер нового города, что на Таган Роге на Азовском море строят, тут же пристанище корабельное, на котором великий государь царь 29 числа июня (1696) сам изволил указать и размерять и для того я далее первого числа сентября нынешнего году (1701) в пребывании при великом государе зачал с молебным пением тот же чертеж или размер».
Перед взором понятливого архитектора, видимо, вставала центральная часть города с генераловой площадью, ратушей – приказом, царским и воеводским дворами, дворами офицеров. Тут же недалеко торг, житный двор, и без кабака не обошлось. На соборной площади – церковь. За стенами крепости отмечены посадские слободы пехотных полков и подворье для конницы. Обозначены места военных сооружений, порохового погреба, корпуса складов и дворы инженеров. В удалении отмечены каменоломни и места для печей, обжигающих известь.
– А я вам могу добавить, молодой человек, – удовлетворенно наблюдая за радостной искрой воображения в глазах студента, сказал библиотекарь, – что возглавлял магазейное строение и иные каменные дела Осип Старцев, мастер весьма изобретательный, к полудню и степи российскую архитектуру приспособивший, бесчисленное количество разных по виду и стилю изб поставивший и очень зорко к южной степи, Дону, морю приглядывающийся. Лесу он бездумно не употреблял, многие бревна заменял досками.
Тут, в городе и рядом в донских станицах, а мне довелось, там быть в 1705 году, многое объединилось: курени и мазанки с Украйны малороссийской, изба с севера, а галерея с Кавказа, и брусчатые дома, и камышовые кровли. Поэтому Старцев и строил дома на столбах, срубах, а со всех сторон пускал сплошные крылечки с перилами, лестницы же пустил снаружи, на острых крышах петушки, флажки и солнышки пристроил.
А что касается вашей специальности, то на каждую слободу при строительстве составили чертежи и подробное описание строек и размеров и оные в Москву на утверждение посылали. Губернатор Толстой сам следил за благоустройством, твердую дорогу сделали, скважины били. Но особую красу дубовые рощи и сады, кои посадили, ему придавали.
Вокруг же города бахчи, виноградники и даже табак из Индии произрастал. Отменный город и порт получались. Но вот исчез, как древние Помпеи. В 1711 году все, по Прутскому миру туркам проиграв, стали рушить. Хотя Петр тайно приказал фундаменты оставить, турки, как донес адмиралтеец Апраксин, сию хитрость разгадали, и крепость, гавань и цитадель до основания рушили. Был город и нету…
Сашенька долго рассматривал чертежи, читал пояснения, и в его голове вырастали новые красивые города на Таганьем Рогу у теплого моря, где у причала стоят многочисленные корабли с развевающимися и хлопающими на ветру флагами, на набережной их приветствуют ликующие толпы, с крепостных стен салютуют канониры, а иноземные и отечественные гости ходят по улицам и спрашивают: кто же сие так мудро и красиво придумал, а он бы молча раскланивался и почти не краснел…
– Молодой человек, – тихо тронул за плечо служитель. – Уже все разошлись. Залу закрываю…
ЩЕРБАНЕВА ЛЕВАДА
Солнце садилось в бескрайние причерноморские степи, четко обозначив небольшие, насыпанные давними кочевниками холмы. Между ними мелькнула тень, она вытянулась на восток, как сдуваемое у свечи пламя, и осторожно поползла в степь. Тихий свист. Появился еще десяток силуэтов, и по тайному знаку тени они темно-серыми волками устремились вперед, оставив за собой скачущих всадников.
Аслан-ага давно не выходил на добычу, но этим летом за хорошую плату, полученную от османского посла и шляхтича из Речи Посполитой, вопреки ханскому запрету, решился на рискованную вылазку в прикрымские степи. Плата была немалая, но и разведать они должны были многое. Османец хотел знать: сколь далеко на юг продвинулись поселения казаков, прибывают ли в Новую Сербию еще сербские и славянские поселенцы, сколько русского войска держит императрица в Сечи. Немного оказалось желающих лезть под пули, но три десятка сорвиголов Аслан уговорил. Раньше здесь, в предкрымской степи, никто не рисковал селиться, а сейчас, пользуясь большим войском России и милостями запорожцев, по балкам, буеракам росли хутора и села, распахивались нетронутые земли.
Под копытами пискнула, не успев взлететь, пичуга, заверещал и замолк затоптанный заяц, хлопнув крылами, взмыл в небо с задранной лисицей не привыкшей делить добычу ястреб. Аслан резко натянул поводья, втянул воздух и развернул коня на север. Еще несколько минут, как бы убегая от последних лучей заходящего солнца, мчались зловещие тени, а затем растворились в вечерних сумерках, исчезли с горизонта, погружаясь одна за другой в заросший кустарником яр.
В яру конники спешились, надели мешки на морды лошадей, вытянулись бесшумной змеей по едва заметной среди густых кустарников и деревьев тропе. Глубокая промоина преградила путь темной стае.
Из задних рядов вышел высокий с длинными, изуродованными руками, бывалый воин Ахмат и, немного подумав, стал укладывать для броска аркан. С тонким сипеньем взметнулась волосяная веревка и судорожно зацепилась за белеющий в сумерках на той стороне дубовый пень…
Эх, кабы знал старый казак Щербань, что срубленный им вчера дуб поможет клятым ворогам одолеть ров, не затронул бы его никогда!
Но не знал того казак, сидел он на завалинке своей хаты в конце укромной левады, затерявшейся в глубине степного леса, и отбивал косу. А когда отбиваешь косу, то можно вспомнить много добрых старых историй. Он посмотрел на своего меньшого внука и спросил:
– Ну будешь, Максиме, про Сирка слухать?
А про любимого кошевого Ивана Сирка мог он рассказывать с утра и до вечера.
– Да, да, диду! – залепетал пятилетний Максимко, поудобнее усаживаясь возле деда.
– Було то на Старой Чертомлыцкой Сечи в зиму шестьсот семьдесят восьмого года, когда морозы замуровали днепровские глубины и речки полевые твердым льдом, а степи приодели снегами. Тогда сорок тысяч крымчаков и пятнадцать тысяч турок-янычар тайно снялись из Крыма и решили навсегда изничтожить казаков. На третью ночь Рождества Христова, в самую полночь, хан приблизился к Сечи и захватил сичевую стражу. Один испугался, изменил и сказал, что казаки все беспечно по куреням спят, и провел пехотных янычар вовнутрь Запорожской Сечи в «форточку», которая была не закрыта. И тихо-тихо янычары стали заходить в Сечь, заполняя ее улицы, как в темной церкви. Казаки спали, а янычары шли, крадучись, по улицам. И хотя захватили все гарматы[1 - Гарматы – пушки (укр.)] уже и наполнили всю Сечь, но стояли в нерешительности.
– А чего-то диду – они?
– Великая государыня. Предстоит России под твоей десницей столь же славный подвиг совершить, как при Петре. Оный «строитель, плаватель, в полях, в морях герой» возвел Санкт-Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу, как о том говорил итальянец Альгаротти в «Письмах о России». Но негоже светлице с одним окном быть, а наши русские избы все с окном на полудень построены. И оное сотворить надобно, да уберечь от погибели южных россиян и малороссиян, да родственные нам души других стонущих. И не война надобна, а вольность народов этих.
Ломоносов резким жестом, как бы рубя топором, махнул наискосок черноморской полосы. И громко прочитал:
Весь свет чудовища страшится.
Един лишь смело устремиться
Российский может Геркулес.
Един сто острых жал притупит…
Един на сто голов наступит,
Восставит вольность многих стран!
Однако императрица к речениям поэта уже была невнимательна. Она не любила эти проявления возвышенных поэтических восторгов, чувствуя за ними время «Великой Елисавет», которой ей потихонечку тыкали в глаза. Решила прощаться, почти три часа побыла, а в ответ на заверения академика в усердном служении ей и России даже прослезилась, пропустила вызов в печальных и гордых его словах: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». Пригласила к себе «откушать хлеба-соли».
– Щи у меня будут такие же горячие, какими потчевала нас ваша хозяйка.
Перекрестившись усердно, взглянула на портрет Петра и подумала: «Не забыть бы: полуденное окно в Европу…»
ПОКРАСА ГОРОДА
Сашенька Козодоев решил для себя твердо всю жизнь посвятить «архитектуре цивильной», формула которой: «польза, прочность и красота» постигалась им с жадностью и воодушевлением.
Начинал он учебу в «архитекторской команде» самого Саввы Чевакинского, зарекомендовав студентом «удобным к сией науке». Чевакинский дал возможность поучить теорию зодчества великих итальянцев, потребовал, чтобы прилежно относились к арифметике, геометрии и иноземным языкам. Из российского же письма велел штудировать труд князя Долгорукого «Архитектура цивильная выбрана ис Паладиуша славного архитекта и из иных многих архитектов славных… писана в Венеции, лета 1699 году месяца сентября учением и тщением будучи господина князя Долгорукова, а по русскому календару 7206 году» и более новую «Должность архитектурной экспедиции», объединяющую архитектурный трактат со строительным кодексом. День и ночь просиживал Сашенька над книгами, любил перерисовывать с гравюры памятники и другие куншты, а потом обучался делать планы и фасады, ордеры чертить.
Однако учиться дальше не пришлось, заболела матушка, и три с лишним года не учился, а занимался делами хоть и небольшого, но хлопотливого имения.
Но слава богу! Маменьке стало легче, и он снова приехал за «умением» в этот славный Петербург, на этот раз в архитектурный класс Академии художеств.
В небольшой комнате, которую снимал на Васильевском острове, повесил он на стене «Наставление для студентов архитектуры», по которому в первом году обучался ранее. В оном значилось, что перед полуднем арифметике и геометрии теоретической и практической обучаться должен, а также упражняться в рисовании планов, профилей и фасадов. По полудни чертить по Виниоловым и другим правилам столбы. По вечерам вменялось читать то, что днем учили, и читать книги, до сих наук касающиеся. В некоторые дни добавлялось «рисовать с гипсу», моделировать у разных мастеров. А сверх того изучать французский и итальянский языки, читая по вечерам дома авторов на оных языках. Во все свободные часы рекомендовалось ходить в мастерские палаты к художникам всякого звания, а также где палаты строятся для познания всяких материалов.
На другой стенке так, что всегда свет из окна падал как и положено, на муаровой ленте лазоревого цвету в простой раме прикрепил Сашенька знаменитую «Панораму Петербурга» гравера Зубова. Подолгу стоял перед ней будущий архитектор, всматриваясь в диковинный, с многопрофильной крышей дом Голицыной, большой, с трехэтажным центром и боковыми одноэтажными крыльями дворец младшей сестры Петра Натальи Алексеевны, одноэтажный с мезонином, высокий, с изломом крышей и высоким карнизом по центру дворец непутевого сына императора Алексея Петровича, и похожий на этот – дворец вдовствующей царицы Марфы Матвеевны, в котором позднее Растрелли учил своих учеников. Далее видна была часть Фонтанки с Летним садом, в самом центре пышная усадьба Меншикова, одевающаяся в камень Петропавловская крепость с колокольней, здание Сената, дома Гагарина и Шафирова. Да много еще любопытных домов, точных деталей вырезал сей искусный гравер Зубов. Многое уже перестроено, делалась гравюра в 1716 году, но величественный вид гармонии города будоражил Сашеньку, будил в нем высокие думы и воображение, посеянные еще в «архитектурной команде» Чевакинским.
На всю жизнь запомнилась ему короткая, но возвышенная речь сурового Чевакинского, сказанная перед учениками в первые дни занятия.
«Мои други по искусному ремеслу!
Вот вы, наклонные к учению в архитектуре и строительстве, решили стать зодчими России. Земля наша всегда была славна умельцами в градостроительстве, как отечественными, так и иноземными, сообразующимися с сутью нашей жизни и природы. Стародавний Киев-град, Новгород, Владимир, Тверь – чудо-дворцы, древние кремли, крепости, палаты и святые храмы имели, и кои бусурманы не порушили, до сих пор стоят. От оных строений вам в голову и душу планы и ордеры взять многие, ибо они величавы и благолепны. Особливо же наша архитектура цивильная при Великом Петре выросла. Первый русский архитектор Земцов, звание сие заслуживший в канцелярии от строений в Петербурге, его получил в 1724 году. С ним же петровские пенсионеры: Мичурин – московскую школу основавший, Коробов – свою команду создавший при Адмиралтейств-коллегии, а также Еропкин были. Все они и последующую школу российской архитектуры положили, вместе с замечательными итальянцами Растрелли и Трезини.
Зодчий-архитектор, во-первых, свою идею знать должен, ибо строительство он ведет во славу божью, государя, отечества и народа нашего.
Во-вторых, дело зодческое разуметь досконально должен, ибо в архитектуре законов точных немало, ордера свой принцип имеют и мерой обладают. Так, знак доброй архитектуры: ряд, симметрия, евритмия, размер. То есть все здание должно быть сделано по доброй пропорции. А если оная будет разрушена, то все распадется.
В-третьих, он покрасе служить должен. И эта красота здания есть двоякая, одна окраса от места, то есть что такое здание есть сделано, на таком месте, на котором кажется хорошо, а другая окраса бывает от дела архитектуры, то есть что такое здание есть сделано по мере надлежащей».
Чевакинский задумался, тень пробежала по обличью, и продолжал тише:
«Тот, кто думает зодчеством высоких званий достигнуть, или богатство великое накопить, тот зело ошибается. Ибо достойный архитектор за его великую любовь к отчизне нередко гонениям и хуле подвержен. Так, при Бироне, в конце царствования Анны Иоанновны замучили Еропкина, Бланк был сослан в Сибирь. Умер в 1743 году Земцев от тяжкой работы, а Коробов от «всесильного двора» уехал из Петербурга.
Вот каково тем отечественным архитектам, кто идею петровскую в строительстве хотел продолжить, кто традиции российские продолжал и защищал, кто собственное достоинство соблюдал и мнение имел».
«Я – сторонник, – загремел дальше Чевакинский, – «архитектуру цивилис» с «архитектурой навалис», то есть корабельной, соединить, ибо и там и здесь все сотворение разума и мастерства, зодчего и строителя.
Россия – страна морская, и вам еще не раз придется строить корабли и города, верфи и причалы, набережные и пристани. А для сего изучайте архитектуру Петербургского порта, Кронштадта, а также основанный при Петре и разрушенный тогда же зело красивый город и порт на Таганьем Рогу.
Многие считают, что Отечество наше, помимо воли божьей и императорской власти, воином и землепашцем держится, а я бы к сему присовокупил: и зодчего-строителя. Вам же следует укрепить свой разум и сердце трудом, наукой и вечным бдением о благе Отечества нашего. А посему за дела, за дела каждодневно полезные для будущей работы. На пользу всей нашей России».
Сашеньке та речь запомнилась. Вспоминалось, как медленно ходил Чевакинский перед ними и, когда заканчивал фразу, останавливался и рубил указкой для чертежей, как бы отсекая сказанное. С тех пор юный и часто краснеющий студент, за что его друзья и звали не Александром, а на женский манер Сашенькой, загорелся корабельным, портовым, морским строительством. В залах академической архитектурной библиотеки, где хранились чертежи, альбомы, книги, он искал все, что рассказывало о морских городах. И старый библиотекарь из не доучившихся из-за здоровья студентов, видя его интерес, повел его в дальний закуток и вынул какие-то начертанные на листах александрийских чертежи и пояснения.
Сашенька замер: «Исправный чертеж и размер нового города, что на Таган Роге на Азовском море строят, тут же пристанище корабельное, на котором великий государь царь 29 числа июня (1696) сам изволил указать и размерять и для того я далее первого числа сентября нынешнего году (1701) в пребывании при великом государе зачал с молебным пением тот же чертеж или размер».
Перед взором понятливого архитектора, видимо, вставала центральная часть города с генераловой площадью, ратушей – приказом, царским и воеводским дворами, дворами офицеров. Тут же недалеко торг, житный двор, и без кабака не обошлось. На соборной площади – церковь. За стенами крепости отмечены посадские слободы пехотных полков и подворье для конницы. Обозначены места военных сооружений, порохового погреба, корпуса складов и дворы инженеров. В удалении отмечены каменоломни и места для печей, обжигающих известь.
– А я вам могу добавить, молодой человек, – удовлетворенно наблюдая за радостной искрой воображения в глазах студента, сказал библиотекарь, – что возглавлял магазейное строение и иные каменные дела Осип Старцев, мастер весьма изобретательный, к полудню и степи российскую архитектуру приспособивший, бесчисленное количество разных по виду и стилю изб поставивший и очень зорко к южной степи, Дону, морю приглядывающийся. Лесу он бездумно не употреблял, многие бревна заменял досками.
Тут, в городе и рядом в донских станицах, а мне довелось, там быть в 1705 году, многое объединилось: курени и мазанки с Украйны малороссийской, изба с севера, а галерея с Кавказа, и брусчатые дома, и камышовые кровли. Поэтому Старцев и строил дома на столбах, срубах, а со всех сторон пускал сплошные крылечки с перилами, лестницы же пустил снаружи, на острых крышах петушки, флажки и солнышки пристроил.
А что касается вашей специальности, то на каждую слободу при строительстве составили чертежи и подробное описание строек и размеров и оные в Москву на утверждение посылали. Губернатор Толстой сам следил за благоустройством, твердую дорогу сделали, скважины били. Но особую красу дубовые рощи и сады, кои посадили, ему придавали.
Вокруг же города бахчи, виноградники и даже табак из Индии произрастал. Отменный город и порт получались. Но вот исчез, как древние Помпеи. В 1711 году все, по Прутскому миру туркам проиграв, стали рушить. Хотя Петр тайно приказал фундаменты оставить, турки, как донес адмиралтеец Апраксин, сию хитрость разгадали, и крепость, гавань и цитадель до основания рушили. Был город и нету…
Сашенька долго рассматривал чертежи, читал пояснения, и в его голове вырастали новые красивые города на Таганьем Рогу у теплого моря, где у причала стоят многочисленные корабли с развевающимися и хлопающими на ветру флагами, на набережной их приветствуют ликующие толпы, с крепостных стен салютуют канониры, а иноземные и отечественные гости ходят по улицам и спрашивают: кто же сие так мудро и красиво придумал, а он бы молча раскланивался и почти не краснел…
– Молодой человек, – тихо тронул за плечо служитель. – Уже все разошлись. Залу закрываю…
ЩЕРБАНЕВА ЛЕВАДА
Солнце садилось в бескрайние причерноморские степи, четко обозначив небольшие, насыпанные давними кочевниками холмы. Между ними мелькнула тень, она вытянулась на восток, как сдуваемое у свечи пламя, и осторожно поползла в степь. Тихий свист. Появился еще десяток силуэтов, и по тайному знаку тени они темно-серыми волками устремились вперед, оставив за собой скачущих всадников.
Аслан-ага давно не выходил на добычу, но этим летом за хорошую плату, полученную от османского посла и шляхтича из Речи Посполитой, вопреки ханскому запрету, решился на рискованную вылазку в прикрымские степи. Плата была немалая, но и разведать они должны были многое. Османец хотел знать: сколь далеко на юг продвинулись поселения казаков, прибывают ли в Новую Сербию еще сербские и славянские поселенцы, сколько русского войска держит императрица в Сечи. Немного оказалось желающих лезть под пули, но три десятка сорвиголов Аслан уговорил. Раньше здесь, в предкрымской степи, никто не рисковал селиться, а сейчас, пользуясь большим войском России и милостями запорожцев, по балкам, буеракам росли хутора и села, распахивались нетронутые земли.
Под копытами пискнула, не успев взлететь, пичуга, заверещал и замолк затоптанный заяц, хлопнув крылами, взмыл в небо с задранной лисицей не привыкшей делить добычу ястреб. Аслан резко натянул поводья, втянул воздух и развернул коня на север. Еще несколько минут, как бы убегая от последних лучей заходящего солнца, мчались зловещие тени, а затем растворились в вечерних сумерках, исчезли с горизонта, погружаясь одна за другой в заросший кустарником яр.
В яру конники спешились, надели мешки на морды лошадей, вытянулись бесшумной змеей по едва заметной среди густых кустарников и деревьев тропе. Глубокая промоина преградила путь темной стае.
Из задних рядов вышел высокий с длинными, изуродованными руками, бывалый воин Ахмат и, немного подумав, стал укладывать для броска аркан. С тонким сипеньем взметнулась волосяная веревка и судорожно зацепилась за белеющий в сумерках на той стороне дубовый пень…
Эх, кабы знал старый казак Щербань, что срубленный им вчера дуб поможет клятым ворогам одолеть ров, не затронул бы его никогда!
Но не знал того казак, сидел он на завалинке своей хаты в конце укромной левады, затерявшейся в глубине степного леса, и отбивал косу. А когда отбиваешь косу, то можно вспомнить много добрых старых историй. Он посмотрел на своего меньшого внука и спросил:
– Ну будешь, Максиме, про Сирка слухать?
А про любимого кошевого Ивана Сирка мог он рассказывать с утра и до вечера.
– Да, да, диду! – залепетал пятилетний Максимко, поудобнее усаживаясь возле деда.
– Було то на Старой Чертомлыцкой Сечи в зиму шестьсот семьдесят восьмого года, когда морозы замуровали днепровские глубины и речки полевые твердым льдом, а степи приодели снегами. Тогда сорок тысяч крымчаков и пятнадцать тысяч турок-янычар тайно снялись из Крыма и решили навсегда изничтожить казаков. На третью ночь Рождества Христова, в самую полночь, хан приблизился к Сечи и захватил сичевую стражу. Один испугался, изменил и сказал, что казаки все беспечно по куреням спят, и провел пехотных янычар вовнутрь Запорожской Сечи в «форточку», которая была не закрыта. И тихо-тихо янычары стали заходить в Сечь, заполняя ее улицы, как в темной церкви. Казаки спали, а янычары шли, крадучись, по улицам. И хотя захватили все гарматы[1 - Гарматы – пушки (укр.)] уже и наполнили всю Сечь, но стояли в нерешительности.
– А чего-то диду – они?