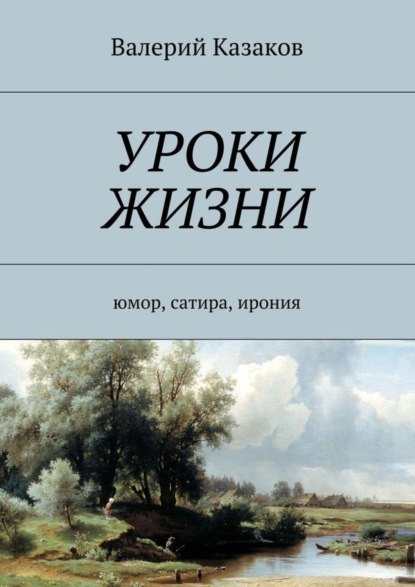По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Уроки жизни. Юмор, сатира, ирония
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А чем они плохи? – удивилась Настя.
– Ты знаешь сама…
– Чем же?
– Когда они приходят к нам в гости, я перестаю чувствовать себя хозяином этого дома… Я тебе не говорил, но буквально вчера твой старший брат Федор бесцеремонно подошел ко мне в магазине, дернул за рукав и попросил добавить тридцать рублей на пиво. Там была огромная очередь, и все люди это видели. Я, конечно, дал ему тридцать рублей, но что после этого обо мне подумали люди. Они могли подумать, что я и этот лохматый, грязный человек чем-то связаны. Что мы с ним друзья… Он сильнее меня и этим пользуется. Но в таких вещах со мной шутки плохи. Я боксом когда-то занимался. Да! И если я рассержусь. Если я рассержусь! Почему ты улыбаешься? Это вовсе не смешно. Помнишь, я показывал тебе синяк на правой руке. Это я, шутя, ломал кирпичи ребром ладони… И вообще, если мне надеть фуфайку на два размера больше – у меня тоже будут широкие плечи. Но это ещё не дает мне права быть грубым. Грубым и бесцеремонным… Я тоже могу много выпить, однако же не пью лишнего.
– А причем здесь фуфайка, Коля?
– Я говорю не о фуфайке. Я говорю о человеческом достоинстве. Как ты не понимаешь! Я говорю о высоком чувстве долга, о нравственности. Даже живя в этой глуши, мы не должны терять лицо и стараться, по возможности, ставить перед собой высокие цели…
Анастасия Павловна с грустью смотрела на мужа и думала, что, должно быть, уже в первом классе он был очень занудным…
Закончив говорить, он начинал готовиться к урокам, что-то сосредоточенно писал в толстой тетради, а ей от тоскливого безделья хотелось поскорее одеться, выскочить на улицу и бежать-бежать куда-нибудь вдоль высокого забора. Потом остановиться на берегу ночной реки, в прошлогоднем репейнике, и выплакаться навзрыд обо всем на свете. После пролитых слез у неё светлее становится на душе. В детстве ранней весной у Насти уже случались приступы меланхолии, но тогда они быстро заканчивались, а сейчас иногда продолжались подолгу и казались совершенно беспричинными.
Плохое настроение покидало Анастасию Павловну, когда они с мужем отправлялись в кино или просто гуляли под луной, взявшись за руки. Он рассказывал ей о школе, похожей на курятник, о том, что у них сейчас новый завхоз, с которым очень трудно найти общий язык. А впрочем, это сейчас не так важно, потому что дрова на будущий год они уже привезли, осталось только расколоть их и сложить в клетки. Анастасия Павловна говорила о том, что в бухгалтерии сейчас тоже стало трудно работать. В детском доме на кухне не хватает посудомоек и разнорабочих, их заменяют медсестры и бухгалтера. Из её речи выходило так, будто всё в детдоме скоро будут делать медики и экономисты: колоть дрова и ездить на лошади за хлебом, и кормить свиней, и чистить за ними навоз.
В местном клубе почти всегда было холодно и сильно накурено. Над сценой, под самым потолком, висел неширокий, но очень длинный плакат, изображающий крупнолицего землепашца, трактор и волнистое желтое поле, уходящее за горизонт. В ожидании кинофильма немногочисленные зрители лузгали семечки и плевали на пол. Из тёмного угла за портьерой пахло мочой. А под ногами даже во время сеанса бродило какое-то мохнатое животное и угрожающе рычало.
В общем, к концу кинофильма молодые супруги так застывали, что до самого дома неслись вприпрыжку и радостно повизгивали от предвкушения ожидающего их домашнего тепла.
Отогревались на кухне за чаем. От холодного осеннего ветра у них горели щеки и неподдельным весельем светились глаза. Хотелось подольше удержать эти счастливые минуты. Николай Алексеевич обнимал жену, наклонялся к её уху и начинал говорить ей красивые слова, примерно такие же, какими выражаются главные герои в фильмах о любви. Она слушала его и улыбалась. Он дотрагивался рукой до её щеки и почему-то сразу вспоминал новогодний праздник из далекого детства. Детство сейчас представлялось розовым и румяным, как спелая антоновка. И чем дальше оно уходило, тем всё отчетливее была по нему ностальгия.
– Анастасия, как ты думаешь, в жизни есть какой-нибудь смысл? – вдруг спрашивал он.
– Никакого, – с улыбкой отвечала она.
– А, по-моему, это слишком категоричное заявление.
– Нет. Иначе писатель Чехов ничего бы не написал. Ну, сам посуди, какой смысл в его «Чайке», в «Трех сестрах?» Если в чем-то есть настоящий смысл, то его можно выразить тремя словами. А из пустого в порожнее можно переливать без конца..
– Надеюсь, ты этим ни на что не намекаешь?
– Нет.
Но весной молодым супругам всё же пришлось купить поросенка. Тесть настоял. Стал доказывать, что от этого всё равно никуда не уйти, так принято в селе, так испокон веку заведено. Благо, хоть поросёнок попался хороший. Гладкий такой, розоватый, ушастый, чем-то похожий на игрушечного слона. Он бегал из комнаты в комнату, мило хрюкал и шумно перескакивал через порог.
– Вот ты какой, хрюндя! – приговаривала иногда Анастасия Павловна, поглаживая его по белой спинке. Поросенок при этом недоверчиво мотал головой и убегал из-под ласк за печку. Анастасия Павловна умиленно провожала его взглядом и спрашивала у Николая Алексеевича, нето шутя, нето серьёзно:
– Коленька, неужели мы его зарежем когда-нибудь? Он такой милый.
Николай Алексеевич делал удивленное лицо и отвечал:
– Нет, конечно. Мы будем кормить его до старости, пока сам не умрет.
– Ну, Коленька!
– И можешь передать своему папочке большое спасибо за подарок. Я не знаю, какова судьба этого зверя в дальнейшем, но в настоящее время мы вынуждены покупать для него молоко… А потом, вероятно, надо будет таскать откуда-то помои и собирать в лесу желуди… Не представляю, как мы докормим его до зрелого возраста… Да ещё, в добавок ко всему, надо будет набраться смелости, чтобы лишить его жизни.
– Для него нужно срубить хлев.
– Для одного поросенка целый хлев? – удивился Николай.
– Но не держать же его на улице.
– Настя, я не плотник, но с завхозом я поговорю… Если, конечно, мы не найдём иных решений.
– А какие ещё могут быть решения?
– Ну, может, отгородить ему небольшую вольеру в лесу. Лес у нас рядом. И пусть живет себе в родной стихии.
– Но поросенок – это не кабан. Он вовсе не настоящий зверь… И вообще, папа говорил, что на первое время ему надо купить какой-нибудь крупы.
– Ну, что ты говоришь, Настенька!
– Что?
– Ну, разве ты не понимаешь, как всё это мелко и… глупо. Что это настоящая трясина. Сначала поросенок, потом – курицы, а потом и корова… Мы даже опомниться не успеем, как нас затянет в натуральное хозяйство. И потом, это же настоящая кабала…
– А мне надоела капуста!
– Ну, это ещё не самое скверное… и…
– И разговоры об ананасах.
Потом всё лето только и было забот, что о хлебе да молоке для подрастающего поросенка. Поросенок быстро рос, с неизменным аппетитом ел всё, что ему приносили, в том числе и квашеную капусту, и картошку, и «хренотер». Он съел мешок овсяной крупы, съел всю морковь, которую великодушный тесть привез из своего огорода. Съел всю траву вокруг дома и вырыл в огороде огромную яму, куда в ненастные дни стекала дождевая вода, и где не в меру растолстевший поросенок стал принимать целебные ванны.
Для него два местных прощелыги, почему-то пользующиеся репутацией хороших плотников, срубили маленький хлев, в котором поросенок размещался на ночлег и откуда «рёхал» на случайных прохожих так громко и сердито, что они испуганно вздрагивали и старались поскорее миновать дом учителя… В общем, Николаю Алексеевичу порой казалось, что они с Анастасией Павловной живут сейчас только для того, чтобы досыта кормить этого проклятого поросенка, который ничем не собирается рассчитываться с ними за труды.
Да тут ещё тесть подлил масла в огонь. Николай Алексеевич, как обычно при встречах, завел разговор о низких нравах провинции, о бездуховности и традиционном российском пьянстве. Зашел весьма далеко, стал цитировать Достоевского и Салтыкова – Щедрина, потом перешел на Чаадаева. Только тесть на этот раз долго слушать зятя не стал, сказал, что они с Настей сами ничуть не лучше. Без коровы в деревне живут, можно сказать, никакого хозяйства не имеют. В кои-то веки одного поросенка завели, зато рассусоливать мастера.
После этого разговора Николай Алексеевич дня два расстроенный ходил, тяжело вздыхал и досадливо морщился. А при случае пасмурно жаловался коллегам, что жизнь в селе устроена ужасно, даже можно сказать, отвратительно.
– Ну, посудите сами, – запальчиво объяснял он, – ведь это каннибализм какой-то. В селе, чтобы хорошо питаться, надо кого-нибудь выкормить, потом зарезать его обыкновенным ножом и съесть… И никто, никто не задает себе вопрос: а имею ли я на это право? Ведь кому-то приходится расплачиваться за подобные убеждения своей жизнью. А вы представляете себе, что будет, если все захотят питаться исключительно мясом, как настоящие хищники. По земле потекут реки крови. Каждый будет ходить с ножом или саблей за поясом. И это будет в порядке вещей… Нет, я этого не понимаю… И вообще, чем свиньи перед нами провинились? Почему мы решили, что этих милых животных лучше всего употреблять в пищу? Вот мне, например, они нравятся, но вовсе не как мясо, а как живые существа. Они удивительно сообразительные, умные и непосредственные животные. Да вы посмотрите им в глаза. У них и глаза синие, как у людей. Единственное, чего им не хватает – так это воспитания.
Коллеги одобрительно кивали головами, снисходительно улыбались, переглядывались, но уверяли, что рассуждения Николая Алексеевича в чём-то нелепы и нет в них, к сожалению, никакой тонкой материи. Действительно, все хотят жить и дышать, но по каким-то неписаным правилам сильный всегда съедает слабого. Так заведено.
– Нет, это не закон жизни, – запальчиво возражал Николай Алексеевич, – это ничем не ограниченный эгоизм, потому что человек вполне способен обходиться постной пищей. Капустой и «хренотером». Жирная пища – это всего лишь дань традиции. Своего рода убежденность и больше ничего. Толстой же, к примеру, мясного не ел, и этот ещё…, как его… – И не мог больше вспомнить никого, кто ещё не ел.
Закончилось лето, приблизились первые холода. Потом дождливые дни ветреной осени сменились стойкими морозами и местные жители приступили к нещадной резке свиней. По выходным дням то там, то сям над тихими улочками Пентюхино вдруг раздавался жуткий предсмертный визг бедного животного, который тут же подхватывался жалостливым воем многочисленных местных собак. Потом крики стихали, и слышен был только гул паяльных ламп, да наплывал откуда-то резкий запах паленой щетины.
Только хрячок Николая Алексеевича жил как прежде. Он всё так же много ел, смачно чавкая над деревянным корытом, так же крепко спал в хлеве, а днем разгуливал по пустынному огороду.
Но однажды в субботу, как бы ни с того ни с сего, во двор учительского дома зашли два человека. Трифон Силантьевич Бздюлев и Андрей Кузьмич Голенищин. У одного в руке была паяльная лампа, у другого из голенища сапога торчал огромный нож из самокала. Они пояснили, что Павел Семенович, отец Анастасии, с ними уже договорился, так что сейчас от хозяев почти ничего не требуется, только небольшая бутылочка за работу. Всё остальное они сами сделают. Тут им помощники не нужны.
Николай Алексеевич со страху как-то не понял сразу, кто такой Павел Семенович. Потом сообразил, что это его тесть и побежал на кухню к жене. Взволнованным голосом сказал ей, чтобы всем остальным она сама руководила. Он не может. Он в этом беспределе не участвует. Это выше его сил.
Анастасия Павловна, по правде сказать, тоже немного испугалась, но бутылку всё-таки нашла и с мужиками о чем-то договорилась…