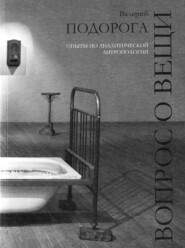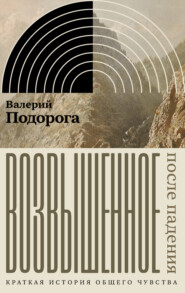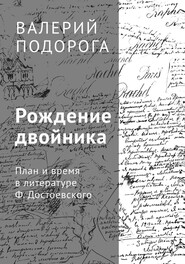По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Nature Morte. Строй произведения и литература Н. Гоголя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Н. В. Гоголь
При самом поверхностном обзоре литературных опытов Гоголя бросается в глаза постоянное словоупотребление, относящееся ко всему, что можно представить в виде кучи. Видимые границы гоголевского перепада мысли от великой сияющей кучи (как произведения) до низкой, «дурной», страшащей, всепоглощающей. Повышение: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем!»[39 - Переписка Н. В. Гоголя в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература. 1988. С. 156. (Н. В. Гоголь – В. А. Жуковскому, Париж, 12 ноября 1836 года).] И понижение: «…я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем»[40 - Н. В. Гоголь. Сочинения. Т. 5 («Выбранные места из переписки с друзьями»). С. 274.]. Поразительное разнообразие отношений, управляющих контекстом, в которых этот образ выступает: куча как повод к ироническому снижению возвышенного, как общезначимое и очевидное, как то, что «наличествует», просто «есть»; но и как то, что лишено связности, бесцельное, запутанное, темное, почти совпадающее с хаосом («ужасом»); то, чего слишком много, то, что наделено избытком, переливается через край; иногда это величественное, великолепное, чудесное, громадное и непомерное, но иногда нечистое, грязное, относящееся к телесному низу и служащее толковым словарем для весьма специфического гоголевского юмора: скатологического[41 - С утратой широкой обиходности современный веер значений слова куча расположился где-то на границах между кучей дерьма и кучей золота. А здесь, в этих крайних границах значения уже не обойтись без Фрейда. Я имею в виду наброски его теории анальной эротики, которой он пытается объяснить психоаналитическое значение денег. (Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. СПб.: Алетейя, 1998. С. 242–245.) Проф. Ермаков подхватывает новацию Фрейда, но упускает из виду принцип гоголевского словоупотребления, которое опирается на романтическую теорию хаоса, т. е. на общие онтологические принципы романтического Произведения (вне тех ограничений, которые предполагают использование редукционистской психоаналитической программы). Так, делая одно, весьма точное и важное замечание, он не развивает его в достаточной мере: «Из этой страсти собирания вырастает роман, отдельные части которого развиваются как будто не в глубину, но только по смежности, в ширину, одна с другой, вроде того строения с бесчисленными пристройками, в которых жил Иван Иванович; но он собирает равноценные части, спаивает их между собой, и по этой причине у него нет одного героя, нет центра, который бы притягивал все события, но каждый тип (Петрушка, Селифан, портной и т. п.) развивается внешне самостоятельно и независимо, но в то же время органично связанный с безличным Чичиковым; в стремлении быть обстоятельным (автор любит обстоятельность во всем) отмечается черта коллекционера, музейность…». (Ермаков И. Д. Психоанализ литературы. М.: НЛО, 1999. С. 184.)Еще бы шаг и многое можно было объяснить в гоголевской архитектонике Произведения, но он так и не был сделан. И понятно почему: режим мимесиса, характерный для литературы, подобной гоголевской, истолковывается в границах той же самой аристотелевской катарсической модели подражания. «Собирание», коллекционность или музейность гоголевской прозы – не прием, а истинная онтология бытия, бытия мира-кучи.Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. СПб.: Алетейя, 1998. С. 242–245.].
Попробуем начать поиск основного узла значений гоголевского словоупотребления кучи, пока на ощупь, не форсируя результат. Куча – где, куда, как, с какой силой, как быстро или как медленно, насколько далеко или близко, угрожает или привлекает? В толковом словаре русского языка Даля (современника и корреспондента Гоголя) можно найти подробное описание значений кучи, опираясь на которые легко составить более-менее полное представление об употреблении этого слова в пушкинскую эпоху. Куча, бесспорно, пространственный образ («груда», «ворох», «громада», «вещи горой»), но не организованный, куча образуется из всего разрозненного и «случайного», не имеющего определенных границ и очертаний, – собственной формы (например, пословица: «Народ глуп. Все в кучу лезет», или известное: «куча-мала»). Все, что попадает в кучу, становится бесформенным. Другой видимый аспект: куча считаема («По кучке, все онучки; а станешь считать, одной нет!»). Не менее важны, конечно, и другие ее свойства: время, обозначающее замедление в действии или его остановку, или занудное повторение того же самого (скучать, докучать), нисходящее к скуке (абсолютная пустота времени): «Скучно на этом свете, господа!». Диапазон взаимодействия скуки и кучи также достаточно богат. Интересно и то, что куча выступает в качестве наиболее древней формы, обозначающей контуры женского тела[42 - Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1955. С. 228–229.]. В гоголевской поэтике слово «куча», бесспорно, относится к той же симптоматике бытия, оценке его состояния на данный момент: каково оно «здесь и сейчас». Иногда слово «куча» чуть ли не выполняет привычную функцию слова-паразита, модного словечка: например, «подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий», «куча приятностей и любезностей» и т. п.[43 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5 («Мертвые души»). С. 165.] Примеров несть числа. Собственно, по Гоголю, надобно писать кучей, мыслить кучей, воображать, чувствовать, даже умирать… тоже кучей (такова, возможно, была «смерть Плюшкина»). Предварительный набросок гоголевской словарной классификации «кучи» выглядит так:
– бездна, тьма (всего), все, «море», «гибель всего», целое, много;
– масса, туча, «лужа»;
– толпы, пуки (ассигнаций), груда, «стадо», рой;
– множество, мириады, миллионы, тысячи;
– хлам, беспорядок, мелочь (всякая), «прах», ветошь (всякая).
В представленном списке мы заранее ввели различия по некоторым видам кучи, образами которых Гоголь часто пользовался. Первый ряд отличается от последующих нарастанием свойств, ограничивающих неопределенность, всеохватность, непредставимость кучи, она здесь и все (бытие), она и ничто. Другие ряды, в которых куча, оставаясь труднопредставимым образом, выглядит связанной значениями общепринятого словоупотребления (например, «туча дождевая», «груда камней», «стадо овец» и т. д.). Или ряд, где как будто допускается количественная оценка кучи, хотя и без положительного результата. Ведь ясно же, что «большие числа» – это неисчислимые множества в силу невозможности их актуальной исчислимости. Есть и ограничения, которые налагаются на способ представления самого образа, так как он применяется иногда вполне локально, – по отношению к выделенному и ясно обозримому явлению. Часто куче придается исключительно негативный оттенок, когда ею становится буквально все то, что превращается в хлам и беспорядок, мертвое и никому не нужное. Последний ряд как раз указывает на энтропию в динамике кучеобразования. И другой важный аспект: из рядов легко складывается общий лексикон излюбленных гоголевских метафор. Вот замечательная картина начала бала из «Мертвых душ»:
«Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг… рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоющим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылашками или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головой, повернуться, и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами»[44 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5 («Мертвые души»). С. 14.].
И о чем же здесь так увлекательно повествуется? Как это ни удивительно, но это не фрагмент по феноменологии губернского быта первой трети XIX века, а развернутая метафора, я бы назвал ее самоактуализующейся (у Гоголя она стала мощным средством в создании ряда проекций одного и того же события). Заметим, как смещаются образы кучи, переходят друг в друга, не теряясь: носящиеся туда-сюда в бешеной кадрили «черные фраки», они же «докучливые эскадроны мух», они же «густые кучи на белоснежном рафинаде». Таков прием: стараться, где возможно, добиваться точности в описании человеческого мира с помощью образов природного бытия. Настоящее описание – всего лишь зоометафора кучи.
Не забыть и про грамматику кучи, определяющей в значительной мере стиль гоголевского письма…
(1) Куча как субстантив, со всеми полномочиями представителя субстанционального бытия («куча есть мир, мир есть куча», – одно поглощается другим, и ни одно не имеет преимущества); куча как субъект и объект действия (предикации), основа всех возможностей представлять мир, скрывая его за пеленой сравнений и метафор.
(2) Значительное количество «кучеобразующих» глаголов (отчасти субстантивных): толпиться, громоздиться, роиться, пестреть, скапливаться, накладываться, собираться, рассыпаться, вздыматься и т. д.;
(3) Также обилие прилагательных, причастий: (масса) сверкающая, (толпа домов) блещущая, (груда) светлая, (куча) бессвязная, (множество) несметное, (кучи) бесконечные и т. п.
(4) Можно указать также на фразеологизмы (стилевые), которыми Гоголь постоянно пользуется. В качестве образца можно взять, например, неоконченную повесть Гоголя «Рим». Бегло просмотрим все наиболее частые упоминания кучи: «бессвязная куча всяких законов», «миллионами пестрели»; «волшебная куча вспыхнула»; «куча доморощенных парижских львов и тигров», «бесчисленные толпы дам и мужчин»; «хлам кое-каких знаний»[45 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 191–194.]; «все застыло, как погаснувшая лава», «целые томы истории», «как старый ненужный хлам», «кучи романических происшествий», «целый ряд великих людей»[46 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 208.]; «и бежит туда же в пеструю кучу»; «бесконечные кучи яиц»; «несметное множество (красавиц)»[47 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 211–213.]; «всякая ветошь»[48 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 222.]; «вся светлая груда (домов)», «пестрела и разыгрывалась масса»; «блещущей толпой домов», «играющая толпа стен», «сверкающей массой темнели», «целым стадом стояли»[49 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 225–226.].
Повторюсь, что, акцентируя направление анализа на столь «баснословной» философии кучи, я вполне отдаю себе отчет в том, что Гоголь оперировал этим образом спонтанно и без какой-либо осознанной рефлексии, для него образ кучи был чем-то привычным (принятым оборотом речи) и все-таки иррациональной величиной. Тем, что всегда здесь, понятное и близкое, но и тем, что всегда там, – чрезмерное, чудесное и непостижимое. Куча – и здесь и там, перемещаясь от одного предела к другому, она постоянно меняет свои характеристики. Возможное определение: куча – имя для количества (чего-либо), неопределимого по размеру, объему, консистенции, условиям распространения. Иначе говоря, только те явления или набор качеств материи могут быть названы кучей, что сопротивляются всякой попытке придать им необходимую форму.
Г. Башляр в исследованиях образной первоматерии ввел понятие «материальной сокровенности», intimite materielle – ближайшее внешнего, что родственно понятиям пра-феномена Гете, юнговского архетипа или бергсонианского durеe[50 - Башляр Г. Земля и грезы о покое. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2001. С. 59–92. (Gaston Bachelard. La terre et les reveries du repos. P., Corti. 2004. p. 13–69.)]. Проникновенность материального образа: внешнее – то, что может быть представлено в образе, – словно подымается из глубин внутреннего, из предобразной толщи бессознательных переживаний материальности мира. Внешнее и внутреннее накладываются, но не отдельными слоями, а переходами, растворяясь друг в друге. И тогда тот, кто переживает, оказывается реально тем, что им переживается. Разделение на субъект и предмет более невозможно. Переживание, как основной источник, питающий энергией материальное воображение, длится, и это дление оказывается на этот момент доминантным качеством бытия. Именно здесь мы находим особую проникновенную чувствительность писателя, который принимает, «осваивает» и перерабатывает в воображении некоторые свойства избранной материальной субстанции (не всякой). Вот эта «проникновенно-сокровенная» чувствительность и дает начало стилю. За избытком значений, используемых для отметки одного набора качеств, скрывается нехватка других. От избытка к нехватке часто нет перехода.
Примеры подобных состояний «материальной сокровенности» можно найти практически у каждого крупного писателя – Э. По или Г. Мелвилла, А. Платонова или А. Белого. В последней части фундаментального труда Сартра «Бытие и ничто» замечательно представлен феномен липкости. Бытийное качество определяется длительностью проявления некой материальной субстанции, присущей вещи (видимой или вообще чувствуемой). Иначе говоря, это качество, хотя и определяет вещь, но к нему все другие ее качества не сводятся. Эта липкость – не сама вещь, но такое же качество, как текучесть (воды), воздушность (облака), одухотворенность (души); в подобных качествах мы видим бытие вещи в границах нашего чувствования. Качество патоки или меда как жидкой массы, отнесенной к бытию субъекта, может быть воспринято как липкость. Но, например, другое качество, которое определяет суть вещи (через ее полезность) будет сладостью. Есть еще целый ряд качеств, которые субъект приводит к единству восприятия качества липкости. Ведь качество, как известно, это способ, каким присваивается бытие (вещи): мягкость/податливость, текучесть/вязкость, послушность и разрушительность. Все эти особости позволяют определить липкость как присущее определенным материальным субстанциям качество коммуникации, со-общаемости и метаморфоза вещей[51 - Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М.: Республика, 2000. С. 602–616.Например: «Это означает, что восприятие липкости, как таковой, создало сразу же для в-себе особый способ принимать мир. Оно символизирует бытие по своему способу, то есть пока продолжается контакт с липкостью, все происходит для нас так, как если бы липкость была смыслом всего мира, то есть единственным способом существования бытия-в-себе…». (Там же. С. 608.)].
Попробуем установить некоторые концептуальные ограничения, которые, как мне кажется, необходимы при анализе гоголевской темы мира-(как) – кучи.
(1) Форма/содержание. Образ кучи в литературе Гоголя явно резонирует с понятием хаотического так, как оно представлено в философии немецкой романтики. Куча – всегда более или менее бытия. Важное допущение: куча – не хаос. И вместе с тем хаос может находить выражение в куче и кучеподобном строе бытия. Куча может быть интерпретирована как переходная форма между хаосом и порядком, формой и бесформенным, пустым и наполненным, природой живой и мертвой. С одной стороны, устойчиво повторяющиеся образы кучи, которыми не устает восхищаться и их пропагандировать Гоголь, они протеистичны, ускользающи, абсолютно свободны в случайности игры природных сил. А что же с другой? Там куча остается первоначальным феноменом природы, скорее в гетевском смысле как Ur-Phanomen. Это значит, бытие проявляет себя в полной открытости в глубине и на поверхности явлений. Все есть куча, все в кучу уходит, и все из кучи рождается, и все на кучи распадается. Циклизм переходов и трансформаций мировой предметности, причем движение вверх, вниз, или по горизонтали не отменяет феноменальную данность кучи. Небо ввысь и вширь, земля вглубь, тогда линия горизонта вдаль – вот что их смыкает и разводит; эта архитектура земного/под-земного, небесного/ воздушного выстраивается с помощью образов кучи. По связям подобия/сходства образу кучи близки: пятно, тень, море, атмосфера, туман и др. Или, например, облако. Как символ небесного на полотнах классической живописи оно занимает всегда периферийное, но композиционно важное место. По выражению Леонардо да Винчи, облако – это «тело без поверхности», оно не имеет границ, все время в движении, образ его неустойчив, пластический трудно передаваем. Как же перевести оттесненное, незамеченное, подручное и дополнительное, возможно, даже чисто техническое условие живописности в план универсальной онтологии? Облако – что это? Инструмент, дополнение к чему-то, декор, фрагмент пейзажа, часть небесного ритуала «страстей Вознесения»[52 - В исследовании Ю. Дамиша выявляются формально-онтологические характеристики облака, – одного из постоянных (но факультативных) объектов изображения преимущественно в западноевропейской живописи от Леонардо до Мане. (Дамиш Ю. Теория облака. Набросок истории живописи. СПб.: Наука, 2003. С. 285.)]? На первый взгляд, «куча», как и «облако», такой же образец бесформенной формы в негативном смысле, своего рода миметический non-sens. Но это, конечно, не так. Когда мы выдвигаем формальные условия, помогающие определить кучу, мы узнаем, что для мира Гоголя становиться или быть кучей, т. е. распадаться на кучу и собираться в нее, онтологически очевидная динамика его существования. Гоголевский персонаж (неважно, как его назвать – Автором, Субъектом или Малым богом), не столько воспринимает мир, сколько тот воспринимает его; он не имеет индивидуальности, странное существо, принадлежащее изначальной, всюду присутствующей куче-мировости. Все в литературе Гоголя чувствуется/думается/ воображается посредством кучи и кучей. Именно тогда, когда мы начинаем все лучше понимать это, открывается чудная архитектоника мирового образа. Теперь-то уж мы знаем, что куча есть и отдельное «качество», и принцип, и то первоначальное действие, что рождает все, что есть, но чей механизм так и остается в тайне. Феномен кучи должен толковаться как символ, с помощью которого Гоголь пытается варьировать психически им неосвоенные, материальные качества бытия, он мимирует, передразнивает, но ничего не понимает…[53 - Мы лишь пытаемся опознать феномен кучи как некое состояние материи, лишенное формы, или как форму бесформенного. Нет ли здесь парадокса: куча как идеальная перцептивная модель образа, то, чем что-то воспринимается, но куча есть и сам предмет восприятия, она воспринимается. Не нулевая ли это точка восприятия вообще, где то, что мы воспринимаем, зависит от того, как мы это делаем? То, что воспринимается, не отличается от того, с помощью чего мы пытаемся его воспринять. Один из образов – вне репрезентации, он скрыт от нас самих, но мы его предпосылаем другому, тому, который пытаемся представить, примеряя к нему все известные словарные образцы.] Не стоит ли упомянуть здесь о тесте Роршаха, ведь навязчивость образов кучи у Гоголя может быть истолкована и как его попытка придать значение тем уклончивым и распыленным, слепым цветным и темным пятнам, что его преследуют, приблизить или отдалить, внимательно рассмотреть их особенную фактуру, чтобы остановить движение собственного страха в ясном и четком образе.
(2) Временность/пространство. Куча – образ времени или пространства? Тоже непростой вопрос. Но такого рода «неудобные» вопросы стоит задавать, чтобы понять, каким образом один-единственный образ наделяет иллюзией безграничности гоголевский мир. В ранних произведениях мы еще находим «легкие», текучие, воздушные пространства, пространства без границ, простирающиеся настолько далеко, насколько хватает глаз (причем сам наблюдатель-рассказчик вдруг оказывается на такой высоте, куда долетит не всякая птица). В «Тарасе Бульбе» воспевается степь, и она видится Гоголю как особая жизненная субстанция Запорожской Сечи («высокие травы»): «И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть, одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала след бега их». А. Белый прав, когда интерпретирует эту «струю» как росчерк единого телесного жеста, рассекающего подвижную зеленую массу, что делает ее узнаваемой, столь же индивидуальной, как подпись. Каждое индивидуально выраженное тело получает свой «росчерк», отделяясь от кучеподобной массы однородного материала. «Из массового движения, как завиток завитка, и как рожица фавна из орнаментальной розетки, рождается и движение обособленного тела»[54 - Белый А. Мастерство Гоголя. М.: ОГИЗ, 1934. С. 138.]. А вот как можно высмотреть татарина: «…Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: “Смотрите, детки, вон скачет татарин!”. Маленькая головка с усами уставила прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала»[55 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 2 («Тарас Бульба»). С. 47.]. Все видимо, взгляд движется свободно: все, что близко, – далеко; все, что далеко, – близко. И самое главное здесь – бег, движение в чистом пространстве, игра линий, движение, переходящее в полет, или чистое скольжение.
Куча – место в-и-вне пространства, она скорее на переходе, некая временность, но не время, разрушающее пространственную устойчивость, отменяющая ранг вещей там, где воцаряется. Куча – своего рода оползень, некая патология пространственности, – так по краям от центра, где еще удерживается видимость порядка, образуется бахрома. Вот почему куча изгоняется на периферию повседневной жизни, как что-то старое, обветшалое, ненужное, потерявшее жизненную силу и функцию, т. е. пригодность. Куча как собрание случайного и похожего, даже одинакового, – все идет в кучу, все там оседает, когда теряет свое место; случайное скопление ненужного, не очень ценного; иногда того, что может понадобиться, а может быть, и нет, и все-таки пока хранится. Но что важно отметить: это отбрасывание в кучу может иметь и иной результат, если мы вслед за Гоголем придадим ему позитивное значение. Ведь куча – это еще и нечто ближайшее, доступное, что «под рукой»: горсть, щепотка, кучка и т. п., – все то, что может быть оценено, схвачено одним оглядом, удержано и исчислено. Другими словами, куча может выступать как негативный фактор представления мира и как позитивный: то она действует как временность, разрушающая пространственные образы, то – как пространственность, поглощающая время. А может быть, куча – единственный объект описания и, пожалуй, единственно живая, динамическая форма субъекта повествования в гоголевской литературе[56 - В литературных опытах Гоголь намного более искренен и более свободен, чем в письмах, где он пытается следовать принятому ритуалу поведения, морально-религиозной форме, которой подражает натужно, так как она требует внутреннего опыта переживания, а не плоский имитации и церемониала. Переходы Гоголя в письмах к торжественной нравоучительной декламации столь часты, что местами теряется доверительное отношение к своему корреспонденту (на что друзья Гоголя часто и справедливо обижались).]. Если бы мы свели кучу к абстрактно-формальному пониманию пространства, то она не была бы кучей, а геометрической фигурой, чья организация получила бы чисто количественные характеристики. Литературные пространства индивидуальны, гетерогенны и имманентны, они не могут быть объективированы в соответствии с требованиями физических или каких-либо «реальных» или «абстрактных» пространств.
(3) Хлам и руины. Собирать/разрушать. Два мотива, передающие действие природной динамики кучи: разрушать/собирать. Причем под собиранием и разрушением следует понимать одно и то же действие. Собирают, чтобы разрушить, и разрушают, чтобы собрать. Циркулярная и замкнутая на себя игра двух мотивов. Хотя, повторю, эти мотивы различаются, причем значительно, когда мы исследуем их порознь[57 - Романтическая теория «фрагмента» (Ф. Шлегель, Г. Новалис, Жан-Поль Рихтер) предполагает изначальную незавершенность произведения, полноту его внутренней свободы. Другими словами, здесь что-то близкое учению В. Беньямина о произведении как руине («Первоисток немецкой драмы»): собирать фрагменты в кучи, в ожидании чуда, – все оставшееся от прежнего, выветренное временем древнего сооружения в виде величественных обломков. Руина как модель барочного произведения (Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. I-1, Fr. am M.: Suhrkamp Verlag, 1974. S. 354.)]. Пожалуй, самое очевидное свойство кучи – это то, что она собирается (или ее собирают)… Как известно, Чичиков увлекается собиранием «мертвых душ», и число их растет, как растет воображаемое будущее богатство, его «капитал». Исчислимые кучи «мертвых душ» должны затем преобразоваться в неисчислимые «пуки ассигнаций». Торг Собакевича с Чичиковым[58 - Ср.: «“Да чего вы скупитесь? – сказал Собакевич, – право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь; а у меня, что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!”.Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева однако же давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова: “а Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!”…» (Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 5 («Мертвые души»). С. 102).]. Нескончаемые реестры, кучи «мертвых душ», словарь их удивительных прозвищ, фамилий и «историй». Да и чем, собственно, эти мертвые души отличаются от живых, – разве только тем, что их роль в повествовании ограничена? Не только. Они – образцы идеального существования, «истинных людей», тем они и отличаются от так называемых «живых» персонажей, которые кажутся под рукой Гоголя более мертвыми. Мертвецкое скопидомство Плюшкина – собирает всякую дрянь, причем сносит все, что найдет, в одну кучу, и в этом весь прием: вещи теряют «место» в порядке жизни, становятся хламом. Отрицательное действие хаоса лишает мир энергии и воли к жизни; умирание, распадение мира, почти зачаровывающая сила распада. Куча – обобщающий образ тотальной энтропии вещей. Все, что было исчислимо и имело свой смысл, место и порядок, теперь («попадая в кучу») становится неисчислимым собранием подобного, даже имя и прошлое значение вещи больше не охраняют ее от мертвой силы распада. Тот же процесс можно увидеть в «Портрете»: художник Чартков собирает картины талантливых художников с целью их уничтожения. Здесь также воцаряется первоначальный ужас распада: собирание ради разрушения. Ноздрев собирает все подряд, но вдобавок ко всему еще «чубуки» и «охотничьих собак»; Петромихали – всякие вещи; а самый несчастнейший из несчастнейших Ак. Ак. Башмачкин («Шинель») – буквы, потом деньги на новую шинель, а потом (после смерти) – только шинели; майор Ковалев из «Носа» – «сердоликие печатки»; Манилов «славно» выстраивает табачные кучи на подоконнике:
«Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой; четыре стола, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенной закладкой, несколько исписанных бумаг; но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и табашнице, и, наконец, насыпан был просто кучей на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми грядками. Заметно, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени»[59 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 5 («Мертвые души»). С. 32.].
Другие тоже не отстают: собирают косточки от арбузов и дынь, сундуки и сундучки, коробочки и кошелочки, всякие иные разности и нелепости:
«Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висели по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия прежде, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится»[60 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 2. («Миргород»). С. 11.].
Куча как архетип мирового хозяйства. Может быть, и иначе: куча образуется спонтанно, не по воле и прихоти субъекта, а в силу возможных изменений, которые претерпевают вещи, вступая в строй жизни. Не является ли куча результатом разрушительного действия времени: то, что было, разрушилось, и если сохранилось что-то от бывшего единства, то лишь обломки, случайные фрагменты, руины?
Величие разрушенного: остатки и фрагменты – не свидетельства хаоса и смешение прежнего порядка с новым, а, напротив, то, что продолжает противостоять времени, хотя целое, которому оно принадлежало, невосстановимо. Отсюда эстетизация античных и римских руин в позднем Возрождении и барокко, наследуемая немецкими романтиками. Аллегорическое видение и меланхолия объявляются концептуальными, «духовными» и языковыми (троповыми) эквивалентами феномена руин. То, что утрачено, что подверглось разрушительному действию времени, оказывается высшим эстетическим образцом в сознании новой эпохи, обломок древнего храма или статуи выражает смысл отсутствующего целого примерно так же, как патина на старой бронзе может говорить нам о «подлинности» произведения искусства. Невосстановимость целого – вот что делает фрагмент столь значимым, эстетически возвышенным объектом искусства. Не менее важно и другое: «Руина же означает, что в исчезнувшее и разрушенное произведение искусства вросли другие силы и формы, силы и формы природы, и из того, что уже есть в ней от природы, возникла новая целостность, характерное единство»[61 - Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни («Руина»). М.: Юрист, 1996. С. 228.]. У Гоголя в описании сада Плюшкина мы найдем чрезвычайно близкое: «Словом, все было как-то пустынно-хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединяются вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо ощутимую правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает не скрытый нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности»[62 - Гоголь Н. В. Соб. соч. Т. 5 («Мертвые души»). С. 112–113. Можно сказать, что Гоголь невольно следовал мифологической логике, каковую К. Леви-Строс некогда определил как род бриколажа, сравнив особенности ее конструкции с устройством калейдоскопа.]. Однако в эстетике руины мы встречаемся, пожалуй, с главной причиной распада вещей: именно человеческая пассивность допускает разрушение рукотворного мира. Эта пассивность может интерпретироваться по-разному: и как черта характера («чрезмерная скупость»), но и как нечто такое, что не укладывается в тему скупости, например, психическое заболевание («клептомания» и «анорексия» персонажа). Или, как у Гоголя: когда он описывает усадебный дом Плюшкина, скупость этого героя предстает не как человеческая, а как природная сила опустошения, извечный ход Природы, который может быть приостановлен человеческой волей, но возобновляется, как только она ослабевает… вещное становится частью природного, теряет живые связи с человеческим усилием и заботой, все высвобождается друг от друга, рассыпается на мельчайшие части и детали. Плюшкин – энтропийное существо, не столько способствующее распаду, сколько сама его жертва и свидетель. Эстетическая аура пропадает, поскольку человеческое не в силах противостоять разрушительному природному процессу (в отличие от римских руин, остающихся объектами эстетического преклонения). Все сбивается в кучу, причем именно это и есть основной момент всего энтропийного цикла «Мертвых душ».
(4) Гиперболика. Слишком малое/слишком большое. Образы «кучи» – это единственно возможный способ проявления природного как слишком-бытия (определяемого из избытка или нехватки). Все, что существует, всегда или слишком мало или слишком велико. Другими словами, куча – это то, чем мы в силах управлять, чему можем придать форму, хаос же – это всегда слишком малое и слишком большое: неуправляемое, распыляющее, взрывающееся, но и втягивающее в себя, извечно грозящее пустотой и ничтожением. Куча включает в себя все крайности этих «слишком мало/слишком много» в определении наличного бытия: бесконечность и конечность, одно через другое. Форма и проявляет себя в зависимости от степени преобразования конечного в бесконечное и бесконечного в конечное, т. е. на переходе между преобразованиями. Если перевести кучу в область восприятия, то мы получим фрагмент, вырез хаоса, который в состоянии охватить взглядом и даже навязать ему определенную, точно исчисляемую форму. Предположим, что образ кучи мог стать для Гоголя способом защиты от смертного страха и других страхов. Собственно, так же двойственно у немецких романтиков проявляет себя и хаос; сначала во всей своей спутанности, игре сил, юморе, легкости полета и радости («светлая сторона»), потом как бездна – в проклятиях, стонах и ужасе («темная сторона»), и тут нет ничего, кроме черной дыры, смертного ужаса, и нечего противопоставить тому, что тебя всасывает, отнимает последнюю энергию жизни, пожирает и разрушает… Гоголь прошел все стадии романтической карьеры: от радостного начала в «малороссийском лубке» и «этнографическом примитиве» к поздней стадии меланхолии и безумия, последовавшей за отказом от творчества[63 - Судьбы других великих романтиков Гельдерлина или Клейста сродни гоголевской: первый сходит с ума, второй прерывает свой путь самоубийством.]. Иначе говоря, куча всегда указывает на наличие слишком-бытия и покрывает собой содержание любого явления, если оно как-то выражает подобные онтологические свойства. Куча для Гоголя – это первоначальное состояние бытия (Природы), обретающего на мгновение одну из его форм, чтобы тут же ее потерять (История).
Под тем, что предстает у Гоголя в своем первоначальном и неоформленном состоянии, т. е. в виде хаоса (что он и называет кучей), следует понимать явления Природы. Поражает их огромность, мощь, безмерность, – масштаб, несоразмерный человеческой возможности созерцания, легко опрокидывающий человеческую меру познания, т. е. «схватывания» явления в связной целостности его элементов. Как будто романтик склонен обожествлять природу и наделять ее возвышенными чувствами. Таков ли Гоголь? Конечно, ему не чуждо проявление возвышенных чувств к Природе. По Канту, природно-возвышенным можно назвать лишь то, что «безусловно велико»: удовольствие от созерцания природно-возвышенного зависит от величины созерцаемого. Естественно, если мы называем нечто великим, причем настолько великим, что не можем ограничить его нашим представлением, то спрашивается, как же мы способны воспринять его (если само восприятие ставится под сомнение)? «Когда же мы называем что-нибудь не только большим, но большим безотносительно, абсолютно и во всех отношениях (помимо всякого сравнения), т. е. возвышенным, то легко заметить, что для него мы позволяем себе искать соразмерное ему мерило не вне его, а только в нем. Это есть величина, которая равна только себе самой»[64 - Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 5 («Критика способности суждения»). М.: Мысль, 1966. С. 256.]. Для Канта подобное действие совершает разум, именно он возвышает человека над Природой. Напротив, гиперболика чувства отрицает возвышенность души. Гоголь играет количествами, эксплуатируя чувство природно-возвышенного, но всякий раз чрезмерность смещает границы и опрокидывает чувство возвышенного то в смех, то в оцепенение и ужас. Нет иронии, нет разумного осознания границ слишком большого и слишком малого.
Однако можно легко утерять интуицию гоголевского опыта чувственности. Следы ее действия мы находим там, где безмерность пространства отражается в телесной радости парения и высоте обзора, парить-над-всем и видеть-все, быть в мировой точке; и там, где воцаряется беспокойство, постепенно переходящее в страх перед всем, что стало слишком малым, мельчайшим, повсюду проникающим и повсюду снующим, способным атаковать наиболее уязвимые места нашей души. Ни в том, ни в другом движении интуиции кантовского чувства возвышенного не наблюдается. Мельчайшее – это ведь то, что способно проникнуть внутрь (просто в силу размера) даже, если кажется, что защита надежно выстроена. Мельчайшее намного более опасно, чем большое и великое. Для Гоголя – весь ужас в этом мельчайшем, в нем кишит, беснуется нечистая сила: «…и неуклюжее крылатое насекомое, несущееся стоймя, как человек, известное под именем дьявола, ударялось ему в очи»[65 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 3 («Рим»). С. 207.]. Так легко даже невинный комар, что бьет вас со всего размаха прямо в лицо, оказывается бесовской уловкой, пугающей слабую душу до смерти.
4. Словечки. Аграмматизм, или Изобретение языка
Только как-то словечки поставлены особенно. Как они поставлены, – секрет знал один Гоголь. «Словечки» у него тоже были какие-то бессмертные духи, как-то умело каждое словечко свое нужное сказать, свое нужное дело сделать. И как оно залезет под череп читателя – никакими стальными щипцами этого словечка оттуда не вытащишь. И живет этот «душок» – словечко под черепом, и грызет он вашу душу, наводя тоже какое-то безумие на вас…
В. В. Розанов
Гоголь – Плюшкин словечек, нижущий их нарочно бессвязно, чтобы ошеломить, вызвать столпление у глаз красочных пятен; позднее он нагромождает почти бессвязно одинаковые этимологические формы и удвояет эпитет уже прямо ненужно его синонимом; кончает крючничеством, обходом мусорных ям, выкапывая из завали выдохшихся, ставших мертвыми словечек, ему для чего-то нужную всякую дрянь
А. Белый. Мастерство Гоголя
А сам Гоголь, разве он не такой же собиратель? От ранних произведений к поздним, – нигде нет и намека на изменения стиля, все тот же монотонный и неизбежный повтор: описание/перечисление, составление реестров, словарей, энциклопедий. Задумана и на протяжении ряда лет идет работа по сбору материалов для Словаря русского языка, пополняется «Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия. Лексикон малороссийский», продолжается изучение этнографических материалов, «ботаник», «географий», «историй», разного рода руководств (по охоте, разведению садов, управлению хозяйством), подбираются впрок поговорки, описания старинной одежды, рецепты по приготовлению пищи[66 - Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. IX. М.: Академия наук СССР, 1952. С. 440–578.]. Странное впечатление производят записные книжки Гоголя, в которых трудно найти хоть одно свидетельство литературной работы, не говоря уже о личных переживаниях и т. п. Полное опустошение, без личных записей – только анекдоты, сентенции, обрывки фраз, приговорки и присказки[67 - Правда, совсем иное дело – переписка Гоголя, сохранившаяся в достаточной полноте. Именно там можно найти фрагменты личного дневника, наброски планов, проекты, деловые отчеты и просьбы, признания, другой биографически значимый материал.]. Что же он все-таки собирает? – Он собирает слова, а точнее, даже и не слова, словечки.
Конечно, Гоголь – мономан и архивист, но не только, он – и полководец. Возможно, в главном его труде, «Книге о всякой всячине» (он собирал ее непрерывно в течение всей жизни), видишь, как выстраиваются бесконечные колонки словечек, словно войска в боевой порядок перед сражением, готовые атаковать противника в любое мгновение; отсюда совершаются набеги, планируются диверсии, делаются подкопы, здесь замышляется гоголевская заумь, которая должна взорвать язык, не дать ему навязать господство. Очередное «словечко» аккуратно записывается в тетрадку или на клочке бумаги, и что же оно значит? Не просто словечко – настоящий динамит. И означает оно все что угодно, поскольку нет никаких этимологических или грамматических опор (нет нигде даже намека на принцип, по которому подбираются слова)[68 - Вот как Гоголь поясняет свою задачу: «Объяснительный словарь есть дело лингвиста, который бы для этого уже родился, который бы заключил в своей природе к тому преимущественные, особенные способности, носил бы в себе самом внутреннее ухо, слышащее гармонию языка» (Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. IX. C. 441).]. Подчас Гоголь составляет реестры из слов, которые сам же и «выдумывает»; он фантазирует, галлюцинирует некие предвербальные состояния, некие языковые туманности, из которых выбирает невероятные сочетания звуковых элементов, образующих психомоторную, мимическую маску слова. Разве можно так звучащим словечкам найти место в литературном производстве языка, и как это произносить: взбузыкаться и встыркаться, или трехречие, звучащее как заклятие: пигва, айва, квит?[69 - Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. IX. C. 454, 541.]
Приведем ряд гоголевских серий:
Бурун – множество чего-нибудь, хлеба, денег и прочего
Бушма – толстый человек
Бякнуть – сильно кого-нибудь ударить
Бахилы – коты, чарыки, женская обувь
Болобан – дурак, болван
Верещить, верещать – сильно кричать
Вверх тормашками полетел – полетел, перевернувшись несколько раз головою
Взыриться – нечаянно попасть в воду, яму, тину
Взварить да вызварить – наказать, высечь кого
Воскрица – малого роста ловкая, бойкая женщина
При самом поверхностном обзоре литературных опытов Гоголя бросается в глаза постоянное словоупотребление, относящееся ко всему, что можно представить в виде кучи. Видимые границы гоголевского перепада мысли от великой сияющей кучи (как произведения) до низкой, «дурной», страшащей, всепоглощающей. Повышение: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем!»[39 - Переписка Н. В. Гоголя в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература. 1988. С. 156. (Н. В. Гоголь – В. А. Жуковскому, Париж, 12 ноября 1836 года).] И понижение: «…я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем»[40 - Н. В. Гоголь. Сочинения. Т. 5 («Выбранные места из переписки с друзьями»). С. 274.]. Поразительное разнообразие отношений, управляющих контекстом, в которых этот образ выступает: куча как повод к ироническому снижению возвышенного, как общезначимое и очевидное, как то, что «наличествует», просто «есть»; но и как то, что лишено связности, бесцельное, запутанное, темное, почти совпадающее с хаосом («ужасом»); то, чего слишком много, то, что наделено избытком, переливается через край; иногда это величественное, великолепное, чудесное, громадное и непомерное, но иногда нечистое, грязное, относящееся к телесному низу и служащее толковым словарем для весьма специфического гоголевского юмора: скатологического[41 - С утратой широкой обиходности современный веер значений слова куча расположился где-то на границах между кучей дерьма и кучей золота. А здесь, в этих крайних границах значения уже не обойтись без Фрейда. Я имею в виду наброски его теории анальной эротики, которой он пытается объяснить психоаналитическое значение денег. (Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. СПб.: Алетейя, 1998. С. 242–245.) Проф. Ермаков подхватывает новацию Фрейда, но упускает из виду принцип гоголевского словоупотребления, которое опирается на романтическую теорию хаоса, т. е. на общие онтологические принципы романтического Произведения (вне тех ограничений, которые предполагают использование редукционистской психоаналитической программы). Так, делая одно, весьма точное и важное замечание, он не развивает его в достаточной мере: «Из этой страсти собирания вырастает роман, отдельные части которого развиваются как будто не в глубину, но только по смежности, в ширину, одна с другой, вроде того строения с бесчисленными пристройками, в которых жил Иван Иванович; но он собирает равноценные части, спаивает их между собой, и по этой причине у него нет одного героя, нет центра, который бы притягивал все события, но каждый тип (Петрушка, Селифан, портной и т. п.) развивается внешне самостоятельно и независимо, но в то же время органично связанный с безличным Чичиковым; в стремлении быть обстоятельным (автор любит обстоятельность во всем) отмечается черта коллекционера, музейность…». (Ермаков И. Д. Психоанализ литературы. М.: НЛО, 1999. С. 184.)Еще бы шаг и многое можно было объяснить в гоголевской архитектонике Произведения, но он так и не был сделан. И понятно почему: режим мимесиса, характерный для литературы, подобной гоголевской, истолковывается в границах той же самой аристотелевской катарсической модели подражания. «Собирание», коллекционность или музейность гоголевской прозы – не прием, а истинная онтология бытия, бытия мира-кучи.Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. СПб.: Алетейя, 1998. С. 242–245.].
Попробуем начать поиск основного узла значений гоголевского словоупотребления кучи, пока на ощупь, не форсируя результат. Куча – где, куда, как, с какой силой, как быстро или как медленно, насколько далеко или близко, угрожает или привлекает? В толковом словаре русского языка Даля (современника и корреспондента Гоголя) можно найти подробное описание значений кучи, опираясь на которые легко составить более-менее полное представление об употреблении этого слова в пушкинскую эпоху. Куча, бесспорно, пространственный образ («груда», «ворох», «громада», «вещи горой»), но не организованный, куча образуется из всего разрозненного и «случайного», не имеющего определенных границ и очертаний, – собственной формы (например, пословица: «Народ глуп. Все в кучу лезет», или известное: «куча-мала»). Все, что попадает в кучу, становится бесформенным. Другой видимый аспект: куча считаема («По кучке, все онучки; а станешь считать, одной нет!»). Не менее важны, конечно, и другие ее свойства: время, обозначающее замедление в действии или его остановку, или занудное повторение того же самого (скучать, докучать), нисходящее к скуке (абсолютная пустота времени): «Скучно на этом свете, господа!». Диапазон взаимодействия скуки и кучи также достаточно богат. Интересно и то, что куча выступает в качестве наиболее древней формы, обозначающей контуры женского тела[42 - Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1955. С. 228–229.]. В гоголевской поэтике слово «куча», бесспорно, относится к той же симптоматике бытия, оценке его состояния на данный момент: каково оно «здесь и сейчас». Иногда слово «куча» чуть ли не выполняет привычную функцию слова-паразита, модного словечка: например, «подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий», «куча приятностей и любезностей» и т. п.[43 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5 («Мертвые души»). С. 165.] Примеров несть числа. Собственно, по Гоголю, надобно писать кучей, мыслить кучей, воображать, чувствовать, даже умирать… тоже кучей (такова, возможно, была «смерть Плюшкина»). Предварительный набросок гоголевской словарной классификации «кучи» выглядит так:
– бездна, тьма (всего), все, «море», «гибель всего», целое, много;
– масса, туча, «лужа»;
– толпы, пуки (ассигнаций), груда, «стадо», рой;
– множество, мириады, миллионы, тысячи;
– хлам, беспорядок, мелочь (всякая), «прах», ветошь (всякая).
В представленном списке мы заранее ввели различия по некоторым видам кучи, образами которых Гоголь часто пользовался. Первый ряд отличается от последующих нарастанием свойств, ограничивающих неопределенность, всеохватность, непредставимость кучи, она здесь и все (бытие), она и ничто. Другие ряды, в которых куча, оставаясь труднопредставимым образом, выглядит связанной значениями общепринятого словоупотребления (например, «туча дождевая», «груда камней», «стадо овец» и т. д.). Или ряд, где как будто допускается количественная оценка кучи, хотя и без положительного результата. Ведь ясно же, что «большие числа» – это неисчислимые множества в силу невозможности их актуальной исчислимости. Есть и ограничения, которые налагаются на способ представления самого образа, так как он применяется иногда вполне локально, – по отношению к выделенному и ясно обозримому явлению. Часто куче придается исключительно негативный оттенок, когда ею становится буквально все то, что превращается в хлам и беспорядок, мертвое и никому не нужное. Последний ряд как раз указывает на энтропию в динамике кучеобразования. И другой важный аспект: из рядов легко складывается общий лексикон излюбленных гоголевских метафор. Вот замечательная картина начала бала из «Мертвых душ»:
«Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг… рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоющим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылашками или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головой, повернуться, и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами»[44 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5 («Мертвые души»). С. 14.].
И о чем же здесь так увлекательно повествуется? Как это ни удивительно, но это не фрагмент по феноменологии губернского быта первой трети XIX века, а развернутая метафора, я бы назвал ее самоактуализующейся (у Гоголя она стала мощным средством в создании ряда проекций одного и того же события). Заметим, как смещаются образы кучи, переходят друг в друга, не теряясь: носящиеся туда-сюда в бешеной кадрили «черные фраки», они же «докучливые эскадроны мух», они же «густые кучи на белоснежном рафинаде». Таков прием: стараться, где возможно, добиваться точности в описании человеческого мира с помощью образов природного бытия. Настоящее описание – всего лишь зоометафора кучи.
Не забыть и про грамматику кучи, определяющей в значительной мере стиль гоголевского письма…
(1) Куча как субстантив, со всеми полномочиями представителя субстанционального бытия («куча есть мир, мир есть куча», – одно поглощается другим, и ни одно не имеет преимущества); куча как субъект и объект действия (предикации), основа всех возможностей представлять мир, скрывая его за пеленой сравнений и метафор.
(2) Значительное количество «кучеобразующих» глаголов (отчасти субстантивных): толпиться, громоздиться, роиться, пестреть, скапливаться, накладываться, собираться, рассыпаться, вздыматься и т. д.;
(3) Также обилие прилагательных, причастий: (масса) сверкающая, (толпа домов) блещущая, (груда) светлая, (куча) бессвязная, (множество) несметное, (кучи) бесконечные и т. п.
(4) Можно указать также на фразеологизмы (стилевые), которыми Гоголь постоянно пользуется. В качестве образца можно взять, например, неоконченную повесть Гоголя «Рим». Бегло просмотрим все наиболее частые упоминания кучи: «бессвязная куча всяких законов», «миллионами пестрели»; «волшебная куча вспыхнула»; «куча доморощенных парижских львов и тигров», «бесчисленные толпы дам и мужчин»; «хлам кое-каких знаний»[45 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 191–194.]; «все застыло, как погаснувшая лава», «целые томы истории», «как старый ненужный хлам», «кучи романических происшествий», «целый ряд великих людей»[46 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 208.]; «и бежит туда же в пеструю кучу»; «бесконечные кучи яиц»; «несметное множество (красавиц)»[47 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 211–213.]; «всякая ветошь»[48 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 222.]; «вся светлая груда (домов)», «пестрела и разыгрывалась масса»; «блещущей толпой домов», «играющая толпа стен», «сверкающей массой темнели», «целым стадом стояли»[49 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 225–226.].
Повторюсь, что, акцентируя направление анализа на столь «баснословной» философии кучи, я вполне отдаю себе отчет в том, что Гоголь оперировал этим образом спонтанно и без какой-либо осознанной рефлексии, для него образ кучи был чем-то привычным (принятым оборотом речи) и все-таки иррациональной величиной. Тем, что всегда здесь, понятное и близкое, но и тем, что всегда там, – чрезмерное, чудесное и непостижимое. Куча – и здесь и там, перемещаясь от одного предела к другому, она постоянно меняет свои характеристики. Возможное определение: куча – имя для количества (чего-либо), неопределимого по размеру, объему, консистенции, условиям распространения. Иначе говоря, только те явления или набор качеств материи могут быть названы кучей, что сопротивляются всякой попытке придать им необходимую форму.
Г. Башляр в исследованиях образной первоматерии ввел понятие «материальной сокровенности», intimite materielle – ближайшее внешнего, что родственно понятиям пра-феномена Гете, юнговского архетипа или бергсонианского durеe[50 - Башляр Г. Земля и грезы о покое. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2001. С. 59–92. (Gaston Bachelard. La terre et les reveries du repos. P., Corti. 2004. p. 13–69.)]. Проникновенность материального образа: внешнее – то, что может быть представлено в образе, – словно подымается из глубин внутреннего, из предобразной толщи бессознательных переживаний материальности мира. Внешнее и внутреннее накладываются, но не отдельными слоями, а переходами, растворяясь друг в друге. И тогда тот, кто переживает, оказывается реально тем, что им переживается. Разделение на субъект и предмет более невозможно. Переживание, как основной источник, питающий энергией материальное воображение, длится, и это дление оказывается на этот момент доминантным качеством бытия. Именно здесь мы находим особую проникновенную чувствительность писателя, который принимает, «осваивает» и перерабатывает в воображении некоторые свойства избранной материальной субстанции (не всякой). Вот эта «проникновенно-сокровенная» чувствительность и дает начало стилю. За избытком значений, используемых для отметки одного набора качеств, скрывается нехватка других. От избытка к нехватке часто нет перехода.
Примеры подобных состояний «материальной сокровенности» можно найти практически у каждого крупного писателя – Э. По или Г. Мелвилла, А. Платонова или А. Белого. В последней части фундаментального труда Сартра «Бытие и ничто» замечательно представлен феномен липкости. Бытийное качество определяется длительностью проявления некой материальной субстанции, присущей вещи (видимой или вообще чувствуемой). Иначе говоря, это качество, хотя и определяет вещь, но к нему все другие ее качества не сводятся. Эта липкость – не сама вещь, но такое же качество, как текучесть (воды), воздушность (облака), одухотворенность (души); в подобных качествах мы видим бытие вещи в границах нашего чувствования. Качество патоки или меда как жидкой массы, отнесенной к бытию субъекта, может быть воспринято как липкость. Но, например, другое качество, которое определяет суть вещи (через ее полезность) будет сладостью. Есть еще целый ряд качеств, которые субъект приводит к единству восприятия качества липкости. Ведь качество, как известно, это способ, каким присваивается бытие (вещи): мягкость/податливость, текучесть/вязкость, послушность и разрушительность. Все эти особости позволяют определить липкость как присущее определенным материальным субстанциям качество коммуникации, со-общаемости и метаморфоза вещей[51 - Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М.: Республика, 2000. С. 602–616.Например: «Это означает, что восприятие липкости, как таковой, создало сразу же для в-себе особый способ принимать мир. Оно символизирует бытие по своему способу, то есть пока продолжается контакт с липкостью, все происходит для нас так, как если бы липкость была смыслом всего мира, то есть единственным способом существования бытия-в-себе…». (Там же. С. 608.)].
Попробуем установить некоторые концептуальные ограничения, которые, как мне кажется, необходимы при анализе гоголевской темы мира-(как) – кучи.
(1) Форма/содержание. Образ кучи в литературе Гоголя явно резонирует с понятием хаотического так, как оно представлено в философии немецкой романтики. Куча – всегда более или менее бытия. Важное допущение: куча – не хаос. И вместе с тем хаос может находить выражение в куче и кучеподобном строе бытия. Куча может быть интерпретирована как переходная форма между хаосом и порядком, формой и бесформенным, пустым и наполненным, природой живой и мертвой. С одной стороны, устойчиво повторяющиеся образы кучи, которыми не устает восхищаться и их пропагандировать Гоголь, они протеистичны, ускользающи, абсолютно свободны в случайности игры природных сил. А что же с другой? Там куча остается первоначальным феноменом природы, скорее в гетевском смысле как Ur-Phanomen. Это значит, бытие проявляет себя в полной открытости в глубине и на поверхности явлений. Все есть куча, все в кучу уходит, и все из кучи рождается, и все на кучи распадается. Циклизм переходов и трансформаций мировой предметности, причем движение вверх, вниз, или по горизонтали не отменяет феноменальную данность кучи. Небо ввысь и вширь, земля вглубь, тогда линия горизонта вдаль – вот что их смыкает и разводит; эта архитектура земного/под-земного, небесного/ воздушного выстраивается с помощью образов кучи. По связям подобия/сходства образу кучи близки: пятно, тень, море, атмосфера, туман и др. Или, например, облако. Как символ небесного на полотнах классической живописи оно занимает всегда периферийное, но композиционно важное место. По выражению Леонардо да Винчи, облако – это «тело без поверхности», оно не имеет границ, все время в движении, образ его неустойчив, пластический трудно передаваем. Как же перевести оттесненное, незамеченное, подручное и дополнительное, возможно, даже чисто техническое условие живописности в план универсальной онтологии? Облако – что это? Инструмент, дополнение к чему-то, декор, фрагмент пейзажа, часть небесного ритуала «страстей Вознесения»[52 - В исследовании Ю. Дамиша выявляются формально-онтологические характеристики облака, – одного из постоянных (но факультативных) объектов изображения преимущественно в западноевропейской живописи от Леонардо до Мане. (Дамиш Ю. Теория облака. Набросок истории живописи. СПб.: Наука, 2003. С. 285.)]? На первый взгляд, «куча», как и «облако», такой же образец бесформенной формы в негативном смысле, своего рода миметический non-sens. Но это, конечно, не так. Когда мы выдвигаем формальные условия, помогающие определить кучу, мы узнаем, что для мира Гоголя становиться или быть кучей, т. е. распадаться на кучу и собираться в нее, онтологически очевидная динамика его существования. Гоголевский персонаж (неважно, как его назвать – Автором, Субъектом или Малым богом), не столько воспринимает мир, сколько тот воспринимает его; он не имеет индивидуальности, странное существо, принадлежащее изначальной, всюду присутствующей куче-мировости. Все в литературе Гоголя чувствуется/думается/ воображается посредством кучи и кучей. Именно тогда, когда мы начинаем все лучше понимать это, открывается чудная архитектоника мирового образа. Теперь-то уж мы знаем, что куча есть и отдельное «качество», и принцип, и то первоначальное действие, что рождает все, что есть, но чей механизм так и остается в тайне. Феномен кучи должен толковаться как символ, с помощью которого Гоголь пытается варьировать психически им неосвоенные, материальные качества бытия, он мимирует, передразнивает, но ничего не понимает…[53 - Мы лишь пытаемся опознать феномен кучи как некое состояние материи, лишенное формы, или как форму бесформенного. Нет ли здесь парадокса: куча как идеальная перцептивная модель образа, то, чем что-то воспринимается, но куча есть и сам предмет восприятия, она воспринимается. Не нулевая ли это точка восприятия вообще, где то, что мы воспринимаем, зависит от того, как мы это делаем? То, что воспринимается, не отличается от того, с помощью чего мы пытаемся его воспринять. Один из образов – вне репрезентации, он скрыт от нас самих, но мы его предпосылаем другому, тому, который пытаемся представить, примеряя к нему все известные словарные образцы.] Не стоит ли упомянуть здесь о тесте Роршаха, ведь навязчивость образов кучи у Гоголя может быть истолкована и как его попытка придать значение тем уклончивым и распыленным, слепым цветным и темным пятнам, что его преследуют, приблизить или отдалить, внимательно рассмотреть их особенную фактуру, чтобы остановить движение собственного страха в ясном и четком образе.
(2) Временность/пространство. Куча – образ времени или пространства? Тоже непростой вопрос. Но такого рода «неудобные» вопросы стоит задавать, чтобы понять, каким образом один-единственный образ наделяет иллюзией безграничности гоголевский мир. В ранних произведениях мы еще находим «легкие», текучие, воздушные пространства, пространства без границ, простирающиеся настолько далеко, насколько хватает глаз (причем сам наблюдатель-рассказчик вдруг оказывается на такой высоте, куда долетит не всякая птица). В «Тарасе Бульбе» воспевается степь, и она видится Гоголю как особая жизненная субстанция Запорожской Сечи («высокие травы»): «И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть, одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала след бега их». А. Белый прав, когда интерпретирует эту «струю» как росчерк единого телесного жеста, рассекающего подвижную зеленую массу, что делает ее узнаваемой, столь же индивидуальной, как подпись. Каждое индивидуально выраженное тело получает свой «росчерк», отделяясь от кучеподобной массы однородного материала. «Из массового движения, как завиток завитка, и как рожица фавна из орнаментальной розетки, рождается и движение обособленного тела»[54 - Белый А. Мастерство Гоголя. М.: ОГИЗ, 1934. С. 138.]. А вот как можно высмотреть татарина: «…Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: “Смотрите, детки, вон скачет татарин!”. Маленькая головка с усами уставила прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала»[55 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 2 («Тарас Бульба»). С. 47.]. Все видимо, взгляд движется свободно: все, что близко, – далеко; все, что далеко, – близко. И самое главное здесь – бег, движение в чистом пространстве, игра линий, движение, переходящее в полет, или чистое скольжение.
Куча – место в-и-вне пространства, она скорее на переходе, некая временность, но не время, разрушающее пространственную устойчивость, отменяющая ранг вещей там, где воцаряется. Куча – своего рода оползень, некая патология пространственности, – так по краям от центра, где еще удерживается видимость порядка, образуется бахрома. Вот почему куча изгоняется на периферию повседневной жизни, как что-то старое, обветшалое, ненужное, потерявшее жизненную силу и функцию, т. е. пригодность. Куча как собрание случайного и похожего, даже одинакового, – все идет в кучу, все там оседает, когда теряет свое место; случайное скопление ненужного, не очень ценного; иногда того, что может понадобиться, а может быть, и нет, и все-таки пока хранится. Но что важно отметить: это отбрасывание в кучу может иметь и иной результат, если мы вслед за Гоголем придадим ему позитивное значение. Ведь куча – это еще и нечто ближайшее, доступное, что «под рукой»: горсть, щепотка, кучка и т. п., – все то, что может быть оценено, схвачено одним оглядом, удержано и исчислено. Другими словами, куча может выступать как негативный фактор представления мира и как позитивный: то она действует как временность, разрушающая пространственные образы, то – как пространственность, поглощающая время. А может быть, куча – единственный объект описания и, пожалуй, единственно живая, динамическая форма субъекта повествования в гоголевской литературе[56 - В литературных опытах Гоголь намного более искренен и более свободен, чем в письмах, где он пытается следовать принятому ритуалу поведения, морально-религиозной форме, которой подражает натужно, так как она требует внутреннего опыта переживания, а не плоский имитации и церемониала. Переходы Гоголя в письмах к торжественной нравоучительной декламации столь часты, что местами теряется доверительное отношение к своему корреспонденту (на что друзья Гоголя часто и справедливо обижались).]. Если бы мы свели кучу к абстрактно-формальному пониманию пространства, то она не была бы кучей, а геометрической фигурой, чья организация получила бы чисто количественные характеристики. Литературные пространства индивидуальны, гетерогенны и имманентны, они не могут быть объективированы в соответствии с требованиями физических или каких-либо «реальных» или «абстрактных» пространств.
(3) Хлам и руины. Собирать/разрушать. Два мотива, передающие действие природной динамики кучи: разрушать/собирать. Причем под собиранием и разрушением следует понимать одно и то же действие. Собирают, чтобы разрушить, и разрушают, чтобы собрать. Циркулярная и замкнутая на себя игра двух мотивов. Хотя, повторю, эти мотивы различаются, причем значительно, когда мы исследуем их порознь[57 - Романтическая теория «фрагмента» (Ф. Шлегель, Г. Новалис, Жан-Поль Рихтер) предполагает изначальную незавершенность произведения, полноту его внутренней свободы. Другими словами, здесь что-то близкое учению В. Беньямина о произведении как руине («Первоисток немецкой драмы»): собирать фрагменты в кучи, в ожидании чуда, – все оставшееся от прежнего, выветренное временем древнего сооружения в виде величественных обломков. Руина как модель барочного произведения (Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. I-1, Fr. am M.: Suhrkamp Verlag, 1974. S. 354.)]. Пожалуй, самое очевидное свойство кучи – это то, что она собирается (или ее собирают)… Как известно, Чичиков увлекается собиранием «мертвых душ», и число их растет, как растет воображаемое будущее богатство, его «капитал». Исчислимые кучи «мертвых душ» должны затем преобразоваться в неисчислимые «пуки ассигнаций». Торг Собакевича с Чичиковым[58 - Ср.: «“Да чего вы скупитесь? – сказал Собакевич, – право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь; а у меня, что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!”.Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева однако же давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова: “а Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!”…» (Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 5 («Мертвые души»). С. 102).]. Нескончаемые реестры, кучи «мертвых душ», словарь их удивительных прозвищ, фамилий и «историй». Да и чем, собственно, эти мертвые души отличаются от живых, – разве только тем, что их роль в повествовании ограничена? Не только. Они – образцы идеального существования, «истинных людей», тем они и отличаются от так называемых «живых» персонажей, которые кажутся под рукой Гоголя более мертвыми. Мертвецкое скопидомство Плюшкина – собирает всякую дрянь, причем сносит все, что найдет, в одну кучу, и в этом весь прием: вещи теряют «место» в порядке жизни, становятся хламом. Отрицательное действие хаоса лишает мир энергии и воли к жизни; умирание, распадение мира, почти зачаровывающая сила распада. Куча – обобщающий образ тотальной энтропии вещей. Все, что было исчислимо и имело свой смысл, место и порядок, теперь («попадая в кучу») становится неисчислимым собранием подобного, даже имя и прошлое значение вещи больше не охраняют ее от мертвой силы распада. Тот же процесс можно увидеть в «Портрете»: художник Чартков собирает картины талантливых художников с целью их уничтожения. Здесь также воцаряется первоначальный ужас распада: собирание ради разрушения. Ноздрев собирает все подряд, но вдобавок ко всему еще «чубуки» и «охотничьих собак»; Петромихали – всякие вещи; а самый несчастнейший из несчастнейших Ак. Ак. Башмачкин («Шинель») – буквы, потом деньги на новую шинель, а потом (после смерти) – только шинели; майор Ковалев из «Носа» – «сердоликие печатки»; Манилов «славно» выстраивает табачные кучи на подоконнике:
«Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой; четыре стола, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенной закладкой, несколько исписанных бумаг; но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и табашнице, и, наконец, насыпан был просто кучей на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми грядками. Заметно, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени»[59 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 5 («Мертвые души»). С. 32.].
Другие тоже не отстают: собирают косточки от арбузов и дынь, сундуки и сундучки, коробочки и кошелочки, всякие иные разности и нелепости:
«Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висели по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия прежде, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится»[60 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 2. («Миргород»). С. 11.].
Куча как архетип мирового хозяйства. Может быть, и иначе: куча образуется спонтанно, не по воле и прихоти субъекта, а в силу возможных изменений, которые претерпевают вещи, вступая в строй жизни. Не является ли куча результатом разрушительного действия времени: то, что было, разрушилось, и если сохранилось что-то от бывшего единства, то лишь обломки, случайные фрагменты, руины?
Величие разрушенного: остатки и фрагменты – не свидетельства хаоса и смешение прежнего порядка с новым, а, напротив, то, что продолжает противостоять времени, хотя целое, которому оно принадлежало, невосстановимо. Отсюда эстетизация античных и римских руин в позднем Возрождении и барокко, наследуемая немецкими романтиками. Аллегорическое видение и меланхолия объявляются концептуальными, «духовными» и языковыми (троповыми) эквивалентами феномена руин. То, что утрачено, что подверглось разрушительному действию времени, оказывается высшим эстетическим образцом в сознании новой эпохи, обломок древнего храма или статуи выражает смысл отсутствующего целого примерно так же, как патина на старой бронзе может говорить нам о «подлинности» произведения искусства. Невосстановимость целого – вот что делает фрагмент столь значимым, эстетически возвышенным объектом искусства. Не менее важно и другое: «Руина же означает, что в исчезнувшее и разрушенное произведение искусства вросли другие силы и формы, силы и формы природы, и из того, что уже есть в ней от природы, возникла новая целостность, характерное единство»[61 - Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни («Руина»). М.: Юрист, 1996. С. 228.]. У Гоголя в описании сада Плюшкина мы найдем чрезвычайно близкое: «Словом, все было как-то пустынно-хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединяются вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо ощутимую правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает не скрытый нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности»[62 - Гоголь Н. В. Соб. соч. Т. 5 («Мертвые души»). С. 112–113. Можно сказать, что Гоголь невольно следовал мифологической логике, каковую К. Леви-Строс некогда определил как род бриколажа, сравнив особенности ее конструкции с устройством калейдоскопа.]. Однако в эстетике руины мы встречаемся, пожалуй, с главной причиной распада вещей: именно человеческая пассивность допускает разрушение рукотворного мира. Эта пассивность может интерпретироваться по-разному: и как черта характера («чрезмерная скупость»), но и как нечто такое, что не укладывается в тему скупости, например, психическое заболевание («клептомания» и «анорексия» персонажа). Или, как у Гоголя: когда он описывает усадебный дом Плюшкина, скупость этого героя предстает не как человеческая, а как природная сила опустошения, извечный ход Природы, который может быть приостановлен человеческой волей, но возобновляется, как только она ослабевает… вещное становится частью природного, теряет живые связи с человеческим усилием и заботой, все высвобождается друг от друга, рассыпается на мельчайшие части и детали. Плюшкин – энтропийное существо, не столько способствующее распаду, сколько сама его жертва и свидетель. Эстетическая аура пропадает, поскольку человеческое не в силах противостоять разрушительному природному процессу (в отличие от римских руин, остающихся объектами эстетического преклонения). Все сбивается в кучу, причем именно это и есть основной момент всего энтропийного цикла «Мертвых душ».
(4) Гиперболика. Слишком малое/слишком большое. Образы «кучи» – это единственно возможный способ проявления природного как слишком-бытия (определяемого из избытка или нехватки). Все, что существует, всегда или слишком мало или слишком велико. Другими словами, куча – это то, чем мы в силах управлять, чему можем придать форму, хаос же – это всегда слишком малое и слишком большое: неуправляемое, распыляющее, взрывающееся, но и втягивающее в себя, извечно грозящее пустотой и ничтожением. Куча включает в себя все крайности этих «слишком мало/слишком много» в определении наличного бытия: бесконечность и конечность, одно через другое. Форма и проявляет себя в зависимости от степени преобразования конечного в бесконечное и бесконечного в конечное, т. е. на переходе между преобразованиями. Если перевести кучу в область восприятия, то мы получим фрагмент, вырез хаоса, который в состоянии охватить взглядом и даже навязать ему определенную, точно исчисляемую форму. Предположим, что образ кучи мог стать для Гоголя способом защиты от смертного страха и других страхов. Собственно, так же двойственно у немецких романтиков проявляет себя и хаос; сначала во всей своей спутанности, игре сил, юморе, легкости полета и радости («светлая сторона»), потом как бездна – в проклятиях, стонах и ужасе («темная сторона»), и тут нет ничего, кроме черной дыры, смертного ужаса, и нечего противопоставить тому, что тебя всасывает, отнимает последнюю энергию жизни, пожирает и разрушает… Гоголь прошел все стадии романтической карьеры: от радостного начала в «малороссийском лубке» и «этнографическом примитиве» к поздней стадии меланхолии и безумия, последовавшей за отказом от творчества[63 - Судьбы других великих романтиков Гельдерлина или Клейста сродни гоголевской: первый сходит с ума, второй прерывает свой путь самоубийством.]. Иначе говоря, куча всегда указывает на наличие слишком-бытия и покрывает собой содержание любого явления, если оно как-то выражает подобные онтологические свойства. Куча для Гоголя – это первоначальное состояние бытия (Природы), обретающего на мгновение одну из его форм, чтобы тут же ее потерять (История).
Под тем, что предстает у Гоголя в своем первоначальном и неоформленном состоянии, т. е. в виде хаоса (что он и называет кучей), следует понимать явления Природы. Поражает их огромность, мощь, безмерность, – масштаб, несоразмерный человеческой возможности созерцания, легко опрокидывающий человеческую меру познания, т. е. «схватывания» явления в связной целостности его элементов. Как будто романтик склонен обожествлять природу и наделять ее возвышенными чувствами. Таков ли Гоголь? Конечно, ему не чуждо проявление возвышенных чувств к Природе. По Канту, природно-возвышенным можно назвать лишь то, что «безусловно велико»: удовольствие от созерцания природно-возвышенного зависит от величины созерцаемого. Естественно, если мы называем нечто великим, причем настолько великим, что не можем ограничить его нашим представлением, то спрашивается, как же мы способны воспринять его (если само восприятие ставится под сомнение)? «Когда же мы называем что-нибудь не только большим, но большим безотносительно, абсолютно и во всех отношениях (помимо всякого сравнения), т. е. возвышенным, то легко заметить, что для него мы позволяем себе искать соразмерное ему мерило не вне его, а только в нем. Это есть величина, которая равна только себе самой»[64 - Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 5 («Критика способности суждения»). М.: Мысль, 1966. С. 256.]. Для Канта подобное действие совершает разум, именно он возвышает человека над Природой. Напротив, гиперболика чувства отрицает возвышенность души. Гоголь играет количествами, эксплуатируя чувство природно-возвышенного, но всякий раз чрезмерность смещает границы и опрокидывает чувство возвышенного то в смех, то в оцепенение и ужас. Нет иронии, нет разумного осознания границ слишком большого и слишком малого.
Однако можно легко утерять интуицию гоголевского опыта чувственности. Следы ее действия мы находим там, где безмерность пространства отражается в телесной радости парения и высоте обзора, парить-над-всем и видеть-все, быть в мировой точке; и там, где воцаряется беспокойство, постепенно переходящее в страх перед всем, что стало слишком малым, мельчайшим, повсюду проникающим и повсюду снующим, способным атаковать наиболее уязвимые места нашей души. Ни в том, ни в другом движении интуиции кантовского чувства возвышенного не наблюдается. Мельчайшее – это ведь то, что способно проникнуть внутрь (просто в силу размера) даже, если кажется, что защита надежно выстроена. Мельчайшее намного более опасно, чем большое и великое. Для Гоголя – весь ужас в этом мельчайшем, в нем кишит, беснуется нечистая сила: «…и неуклюжее крылатое насекомое, несущееся стоймя, как человек, известное под именем дьявола, ударялось ему в очи»[65 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 3 («Рим»). С. 207.]. Так легко даже невинный комар, что бьет вас со всего размаха прямо в лицо, оказывается бесовской уловкой, пугающей слабую душу до смерти.
4. Словечки. Аграмматизм, или Изобретение языка
Только как-то словечки поставлены особенно. Как они поставлены, – секрет знал один Гоголь. «Словечки» у него тоже были какие-то бессмертные духи, как-то умело каждое словечко свое нужное сказать, свое нужное дело сделать. И как оно залезет под череп читателя – никакими стальными щипцами этого словечка оттуда не вытащишь. И живет этот «душок» – словечко под черепом, и грызет он вашу душу, наводя тоже какое-то безумие на вас…
В. В. Розанов
Гоголь – Плюшкин словечек, нижущий их нарочно бессвязно, чтобы ошеломить, вызвать столпление у глаз красочных пятен; позднее он нагромождает почти бессвязно одинаковые этимологические формы и удвояет эпитет уже прямо ненужно его синонимом; кончает крючничеством, обходом мусорных ям, выкапывая из завали выдохшихся, ставших мертвыми словечек, ему для чего-то нужную всякую дрянь
А. Белый. Мастерство Гоголя
А сам Гоголь, разве он не такой же собиратель? От ранних произведений к поздним, – нигде нет и намека на изменения стиля, все тот же монотонный и неизбежный повтор: описание/перечисление, составление реестров, словарей, энциклопедий. Задумана и на протяжении ряда лет идет работа по сбору материалов для Словаря русского языка, пополняется «Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия. Лексикон малороссийский», продолжается изучение этнографических материалов, «ботаник», «географий», «историй», разного рода руководств (по охоте, разведению садов, управлению хозяйством), подбираются впрок поговорки, описания старинной одежды, рецепты по приготовлению пищи[66 - Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. IX. М.: Академия наук СССР, 1952. С. 440–578.]. Странное впечатление производят записные книжки Гоголя, в которых трудно найти хоть одно свидетельство литературной работы, не говоря уже о личных переживаниях и т. п. Полное опустошение, без личных записей – только анекдоты, сентенции, обрывки фраз, приговорки и присказки[67 - Правда, совсем иное дело – переписка Гоголя, сохранившаяся в достаточной полноте. Именно там можно найти фрагменты личного дневника, наброски планов, проекты, деловые отчеты и просьбы, признания, другой биографически значимый материал.]. Что же он все-таки собирает? – Он собирает слова, а точнее, даже и не слова, словечки.
Конечно, Гоголь – мономан и архивист, но не только, он – и полководец. Возможно, в главном его труде, «Книге о всякой всячине» (он собирал ее непрерывно в течение всей жизни), видишь, как выстраиваются бесконечные колонки словечек, словно войска в боевой порядок перед сражением, готовые атаковать противника в любое мгновение; отсюда совершаются набеги, планируются диверсии, делаются подкопы, здесь замышляется гоголевская заумь, которая должна взорвать язык, не дать ему навязать господство. Очередное «словечко» аккуратно записывается в тетрадку или на клочке бумаги, и что же оно значит? Не просто словечко – настоящий динамит. И означает оно все что угодно, поскольку нет никаких этимологических или грамматических опор (нет нигде даже намека на принцип, по которому подбираются слова)[68 - Вот как Гоголь поясняет свою задачу: «Объяснительный словарь есть дело лингвиста, который бы для этого уже родился, который бы заключил в своей природе к тому преимущественные, особенные способности, носил бы в себе самом внутреннее ухо, слышащее гармонию языка» (Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. IX. C. 441).]. Подчас Гоголь составляет реестры из слов, которые сам же и «выдумывает»; он фантазирует, галлюцинирует некие предвербальные состояния, некие языковые туманности, из которых выбирает невероятные сочетания звуковых элементов, образующих психомоторную, мимическую маску слова. Разве можно так звучащим словечкам найти место в литературном производстве языка, и как это произносить: взбузыкаться и встыркаться, или трехречие, звучащее как заклятие: пигва, айва, квит?[69 - Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. IX. C. 454, 541.]
Приведем ряд гоголевских серий:
Бурун – множество чего-нибудь, хлеба, денег и прочего
Бушма – толстый человек
Бякнуть – сильно кого-нибудь ударить
Бахилы – коты, чарыки, женская обувь
Болобан – дурак, болван
Верещить, верещать – сильно кричать
Вверх тормашками полетел – полетел, перевернувшись несколько раз головою
Взыриться – нечаянно попасть в воду, яму, тину
Взварить да вызварить – наказать, высечь кого
Воскрица – малого роста ловкая, бойкая женщина