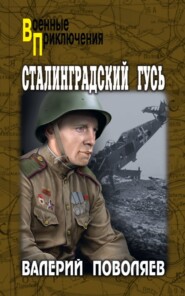По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лесная крепость
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Надя, тебе надо эвакуироваться на Большую землю, – сказал он, – у тебя ребенок… Наше с тобою будущее… – В следующий миг он понял, что произносит какие-то безликие, затёртые слова, протестующе дёрнул головой, а ведь где-то он услышал их, где-то подцепил, и они запали в голову…
– Ещё рано. Пару месяцев я могу побыть с тобой, может быть, даже ещё больше, а потом да, потом надо будет уезжать…
Чердынцев задержал в себе вздох – очень хотелось бы, чтобы с женой всё было в порядке, как хотелось бы, чтобы она как можно дольше пробыла с ним, потом протестующе шевельнулся и проговорил упрямо:
– Всё равно тебе надо эвакуироваться.
В ответ – тишина. Наденька решила промолчать: у неё была своя правота, у Чердынцева своя, и обе правоты надо было совместить.
Райцентр затих, он буквально съёжился, как некое живое существо в предчувствии страшных событий, люди по-прежнему почти не выходили из домов, если выходили, то с бледными, осунувшимися лицами и опущенными глазами, они боялись смотреть друг на друга, будто были в чём-то виноваты, и говорить что-либо боялись, встретившись где-нибудь случайно, разбегались молча, испуганно, отводя глаза в сторону либо вовсе не поднимая их. Все знали, что молодая учительница Пантелеева находится в руках у Аськи-полицейской, а с преподавательницей – трое учеников, две девчонки и один парнишка; раньше было пятеро, но двоих Аська отпустила. Все местные, с малых лет райцентровскому люду знакомые, росли на виду… Страшные две виселицы приготовлены для этой четвёрки, учительницы и её учеников, вот ведь как…
Затих райцентр, поугрюмел. И природа в местах здешних, кажется, изменилась – ветер стал дуть сильнее, молодые ёлки из снега выворачивает прямо с корнями, скрежещет, словно старый дед вставными челюстями, воет, вгоняет народ в нервную оторопь…
А Шичко тем временем спорила с комендантом.
– Великая немецкая армия не можно бороться с детьми, – в очередной раз упёрся комендант, словно бык, воткнувший в землю рога.
– Это не дети! – возражала ему в крайнем волнении Шичко, у неё голос иногда даже сдавал, в нём, будто в дисковой пиле, отлетали зубья, начальница полиции взвизгивала, делала на коменданта охотничью стойку и перечёркивала рукой пространство. – Это полновесные враги рейха! Они могут навредить гораздо более взрослых. Это очень опасные существа. Вы недооцениваете их, господин гауптман.
В конце концов коменданту надоело спорить с дамой, он приподнял одну мохнатую бровь, под которой тускло поблёскивало стёклышко монокля, стекло выпало из-под брови, и комендант, словно бы разом обессилев, вяло махнул рукой.
– Ладно, делайте что хотите! – сказал он.
Ближе к вечеру Шичко в сопровождении полицейских на двух санях отправилась на железнодорожную станцию – отвезла на поезд дорогого папаню, выхлопотала для него специальный литер, дающий право садиться на немецкие поезда, с этим литером дорогой родитель и отбыл на балтийские просторы, поближе к пенистому серому морю.
Дочка, проводив отца, отряхнула ладони – с глаз долой, из сердца вон, дорогой папаня ей изрядно надоел – и скомандовала своим подопечным:
– Гоним домой!
На следующий день состоялась казнь. С самого утра, едва тёмный ночной морок над крышами райцентра начал редеть, в нём появились жидкие серые проталины, по домам пошли полицаи, они стучали прикладами винтовок в двери и выкрикивали зычно:
– Выходи, народ, на главную площадь – представление будет!
– Какое представление? – задушенными, испуганными голосами спрашивали люди и невольно ёжились, словно бы хотели вжаться в землю, они знали, что за страшное представление ждёт их.
– Придёте на площадь – увидите! Местный театр готовит вам хороший спектакль. – В голосах полицаев звучала наигранная бодрость, и сами они держались бодро, а вот глаза… Испуганные, мечущиеся глаза выдавали их – полицаи сами страшились того, что должно было произойти, давились бодрыми выкриками: – Все на площадь!
Они боялись Шичко.
А Шичко сейчас была занята одним делом – слишком уж чёрным, избитым выглядело после пыток лицо учительницы, с таким лицом её нельзя было выводить на площадь, и начальница полиции ломала себе голову, не знала, как быть. Забелить всё извёсткой – слишком грубо получится; краской – краску такую не сразу подберёшь, да потом краски телесного цвета ни в России, ни в Германии не выпускают, её надо составлять из многих других красок; мелом – и мелом не получится… Оставалось одно – убрать подбитые черноты и синяки пудрой.
Шичко не выдержала, зачертыхалась: это сколько же пудры придётся потратить на одну только преступную бабскую рожу? Но делать было нечего. Шичко достала из стола картонную коробочку с пудрой. Довоенное производство, московская фабрика «ТэЖэ». Начальнице полиции эта пудра нравилась – была мягкая, не вызывала раздражения… Конечно, пудра, привезённая из рейха, лучше, запах имеет райский, нежности она необыкновенной, но пудра «ТэЖэ» тоже на дороге не валяется, её тоже жалко тратить…
Тем более на кого тратить – на врагов Великой Германии… Шичко стиснула пальцы в кулак, жёстко хрястнула по столу – коробочка с пудрой даже подпрыгнула. Хорошо, драгоценный порошок не рассыпался, не лёг млечным путём на зелёное сукно, обтягивавшее стол. Шичко накрыла пудру ладонью и позвонила в колокольчик, вызывая к себе помощницу Эльзу. Та вошла в кабинет неслышно – сутулая, в круглых железных очках, неудобно оседлавших горбатый вороний нос, немногословная.
Начальница полиции ногтём подбила к ней коробочку с пудрой.
– Сходи в камеру, где сидит эта самая… – Шичко покрутила пальцами в воздухе, будто болт какой завинтила в пространство. – Ну эта… которую мы должны казнить первой…
– Э, поняла, – неторопливо произнесла Эльза.
Шичко вторым ударом ногтя подбила коробочку ещё ближе к помощнице.
– Наштукатурь её, убери синяки, чтобы рожа выглядела прилично… Да пудру не транжирь особо, береги! Понятно?
– Всё понятно, – прежним неторопливым, лишённым всякого выражения тоном проговорила Эльза. Подхватила коробку и исчезла из кабинета, словно бы её и не было.
В дверь заглянул Федько. Широкая, с тёмными, будто нарисованными углём бровками физиономия его была озабочена. Шичко нервно вскинула голову:
– Ну что там ещё?
Федько выпятил нижнюю влажную губу.
– Да ничего, Ассия Робертовна, всё в нормальке.
– Тогда чего пришёл? Народ, что ли, собираться не хочет?
– Собирается понемногу, а куда ж он денется? Сгоняем, как и было велено.
– Так чего тебе надо?
Федько выпятил нижнюю губу ещё больше, весь вид его выразил недоумение, он часто похлопал глазами, будто подцепил ресницами соринку, и отрицательно мотнул головой:
– Ничего… Ничего не надо!
Такие пустые ответы, как и пустые разговоры, беседы вообще, очень раздражали начальницу полиции, она уже открыла рот, чтобы врезать Федько как следует, по первое число, словом, но Федько уже не было, и Шичко ограничилась тем, что раздражённо дёрнула головой и, словно бы устав от стояния, опустилась в кресло, поёрзала в нём, устраиваясь поудобнее.
Конечно, дятел этот приходил с одной целью – отговорить её от казни. Тоже, заступник нашёлся. Шичко с негодующим шумом втянула в себя воздух, ноздри у неё сделались широкими, будто у африканской женщины, которую начальница полиции живьём не видела, на книжных картинках полюбовалась вдоволь, и этот туда же! Мало ей одного коменданта, теперь в радетели затесался старший полицай… Фу!
Эльза вернулась через двадцать минут, доложила бесстрастно:
– Заключённая к казни приготовлена.
– Морда у неё очень страшная?
– Вполне подходящая.
– Народ на площади не испугается?
– Не должен.
– Молодец! – похвалила Шичко свою помощницу. – Только Пантелеева не заключённая, а, как заявил мне комендант, арестованная.
– Что в лоб, что по лбу, Ассия Робертовна.
– Ладно, иди, знаток современного словоблудия! – Шичко приблизилась к зеркалу, оглядела себя – хорошо ли она смотрится?
Смотрелась она неплохо, только коменданту почему-то никак не понравится, совсем не обращает на неё внимания господин гауптман. Шичко недовольно подёргала ртом – комендант не только на неё, он вообще ни на кого не обращает внимания, ни на одну женщину в Росстани. Это наводит на определённые мысли. А понравиться гауптману начальнице полиции очень хотелось, тогда многие вопросы можно было бы решать в одно касание, без споров и разногласий.