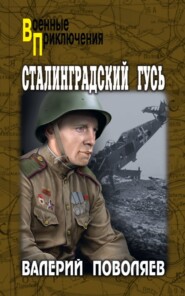По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Опасная тишина
Серия
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нет, не галлюцинации. Мягков напрягся, стараясь разглядеть что-нибудь в темноте, различил несколько женских фигурок, одетых в светлое и его хриплым звоном пробила недобрая мысль: а ведь это комсомолки, поднятые дураком-руководителем и посланные на самую настоящую войну, и среди них находится и Даша Самойленко. Мягков от досады чуть не застонал.
– Да вы чего, девки? – просипел он сквозь сжатые зубы. – Сейчас тут стрельба начнется…
Он приподнялся и начал делать рукой резкие, прибивающие движения.
– Ложись! Ложись! – продолжал едва различимо сипеть Мягков, кричать он не мог – «камышовые коты» находились совсем рядом и, надо полагать, находятся они в таком заведенном состоянии, что стрелять начнут, не задумываясь.
Девушки, идущие к ним в темноте, ничего не видели, ничего не слышали, – как шли, ни на что не обращая внимания, так и продолжали идти. И вот ведь как – одеты во все светлое, заметное издали, будто собрались на праздник, и беспечность их – праздничная…
– Ложись, ложись! – продолжал сипеть Мягков, скрещивал над собою руки, старался привлечь к себе внимание – куда там, все было бесполезно.
Внутри у Мягкова возникла неясная тоска, такое с ним случалось, когда на его глазах погибал кто-нибудь из близких людей. Бороться с этой тоской было нечем, лекарств не существовало никаких, конец могла положить только пуля, но это не выход… Мягков вновь стиснуто, едва слышно застонал.
И как не застонать, когда среди этих приметных в ночи дурех находится и его Даша, – именно его, это так и никак иначе, – за несколько часов она сделалась ему дорогой, близкой, хотя он с нею, кажется, даже не успел перейти на «ты», для обычного человеческого сближения, когда люди начинают доверять друг другу, просто не хватило времени.
Что делать? Мягков оглянулся, вгляделся в темноту, из которой должны были вывалиться «камышовые коты», ему показалось, что он засек некое смятое шевеление в пространстве, перемещения с места на место, и если это так, то, значит, через минуту-полторы бандиты выйдут на линию, которую можно будет накрыть огнем.
Что делать?
Не знал Мягков, что делать. В конце концов не выдержал, отодвинул винтовку в сторону, вскочил и, пригибаясь низко, будто над ним уже плакали пули, побежал к комсомолкам.
В это время сзади треснула земля. Непонятно, что произошло – то ли у бойцов не выдержали нервы, то ли бандиты засекли нечто неладное и поспешно открыли стрельбу, то ли настороженный, приготовившийся к бою, с натянутыми нервами Мягков среагировал на грохот так болезненно… В общем, все могло быть.
Над головой коменданта просвистело несколько пуль, он выпрямился и тут же сгорбился, едва ли не ткнувшись грудью в землю, прокричал что было силы – у него чуть жилы на шее не лопнули:
– Стой, девчонки! Дальше нельзя!
Под ногами дернулась земля, по сапогам жестко хлестнула подбитая взрывом пыль, пространство осветилось мертвенным серым светом. За спиной кто-то кинул гранату. Мягков вновь пригнулся и привычно замахал рукой:
– Сюда нельзя! Назад!
В следующий миг Мягков вспомнил о своей винтовке, развернулся круто, споткнулся и едва не полетел на землю. Но все же на ногах удержался, выругался и прихрамывая на одну ногу, побежал к ней. Перед ним, совсем недалеко, начали вспыхивать оранжевые, красные, синеватые бутоны, словно бы в воздухе распускались и тут же сворачивались, угасали диковинные цветы.
Это били «камышовые коты», патроны у них были в основном заморские, разномастные, трассирующие, поэтому темное ночное пространство так быстро превратилось в занятный цветной ситец.
Чем раньше они свернут шею «камышовым котам», тем меньше будет потерь в толпе несчастных комсомолок… А потери уже были – из темноты доносились протяжные крики. Так надрывно, тоскливо, громко могут кричать только раненые люди. Это Мягков знал по своему опыту, по войне.
Он распластался около своей винтовки, в то же мгновение передернул затвор. Привычно, словно бы всегда занимался этим, подцепил стволом винтовки недалекий, особенно ярко распустившийся бутон и нажал на спусковой крючок.
Бутон в то же мгновение погас, сквозь грохот стрельбы прорезался вопль. Попал. В другой раз удачный выстрел вызвал бы в Мягкове ощущение какого-нибудь победного удовлетворения, а сейчас родились раздражение, злость и одновременно далекая обида, он снова передернул затвор винтовки, подхватил концом ствола второй распустившийся бутон и опять нажал пальцем на спусковой крючок винтовки.
И снова попал – дряблую плоть ночи всколыхнул бычий рев – видать, подстреленный был человеком нехилого телосложения, мог справиться со стадом коров.
В голове сидела тоскливая мысль: как там Даша? Где она? Не угодила ли под залпы «камышовых»? Он верил в то, что не угодила, но в голове все равно сидела, не исчезала тревожная мысль о Даше. Мягков кусал зубами губы и цеплялся стволом винтовки за очередной всполох огня.
Минут через десять «камышовые коты» попятились – не прошли они через кордон, поставленный Мягковым, по обеим обочинам дороги стали отступать в темноту, и тут из ночи по ним ударили два пулемета задней засады.
Огонь был плотным, перекрестные струи свинца секли пространство и все, что в нем находилось, как капусту, мало кто из нападавших мог уцелеть в таком огне.
Понимая, что заслоны свое дело сделали, Мягков вновь отложил винтовку в сторону и бросился в темноту, туда, где осталась группа девушек-комсомолок.
Земля под ним кренилась неровно, уходя то в одну сторону, то в другую, уползала из-под ног, дважды комендант присел на четвереньки – почувствовал, что по нему стреляли из темноты, выстрелил ответно из нагана, – и через несколько минут наткнулся в темноте на лежащую девушку.
Девушка была мертва. Мягков опустился перед ней на колени и вслепую провел ладонью по волосам – ему показалось, что это была Даша. Но волосы у Даши были мягче, длиннее, они выбивались у Даши из-под косынки. А у этой девушки не могли выбиваться, она была острижена коротко, под мальчишку… Это была не Даша.
Мягков облегченно перевел дыхание. Один из пулеметов, работавших в задней засаде, смолк – то ли заклинило, то ли надо было вставлять новую ленту, отсюда не понять, что нужно делать, – но молчание пулемета вызвало у него беспокойство. Мягков прижался к земле и, вывернув голову, начал тщательно вглядываться в темноту.
Второй пулемет продолжал работать. Опытный пулеметчик бил экономно, короткими очередями, он видел то, чего не видел комендант, подхватывал цели на лету, на бегу, подстраховывал первого пулеметчика, ожидая, когда тот справится со своим «максимом».
Со вторым пулеметчиком повезло – если бы еще и его «максим» умолк, тогда пиши пропало, Мягков, как командир группы, мог угодить под ревтрибунал.
Полторы минуты, пока молчал первый пулемет, вызвали у Мягкова жжение под лопаткой, сильное жжение, – показалось, что ему ножом проткнули спину, пытались достать до сердца. Комендант протестующе стиснул зубы: «Не-ет…»
Наконец заработал первый пулемет, и обрадованный Мягков ладонью сгреб со лба горячий пот. Боль, возникшая в сердце, начала понемногу отступать, комок, возникший в глотке – комендант даже не заметил, как тот возник, – рассосался сам по себе.
Взглянув напоследок на мертвую девушку, – лицо ее в вязкой душной темноте почти светилось, картина была нереальной, – Мягков переместился дальше: увидел еще одну фигурку, лежавшую на земле без движения. Выматерился – ну, куда же вы, дурехи, полезли? Эх, оторвать бы голову вашему непутевому предводителю! Тьфу!
Через несколько мгновений он оказался около второго тела. Сдавил зубы, нижнюю губу прокусил до крови, внутри вновь возникло что-то нехорошее, острекающее: а вдруг это Даша?
Нет, это была не Даша. Мягков втянул в себя сквозь зубы воздух, выдохнул резко и двинулся дальше.
Дашу он нашел через полторы минуты: комсомольская группа почти целиком попала под первые залпы «камышовых котов» и легла прямо на дороге.
Даша была еще жива, она узнала Мягкова, улыбнулась слабо, очень испуганно, прошептала едва слышно:
– Это вы?
– Я, Даша, я! Ты не тревожься, я тебя сейчас к врачу доставлю. Потерпи, Даш!
В темноте было хорошо видно, как на лице Даши показалась кровь – вытекла из-под крыла носа, пролилась на щеку, оттуда тонкой струйкой – вниз, на шею.
– Вы только моей маме ничего не говорите, – прошептала Даша, – прошу вас.
Пулеметы к этой минуте смолкли – видать, с «камышовыми» было уже покончено, часть их положили, часть вернулась в плавни, – наступила звонкая, ломающая виски тишина, через несколько мгновений сквозь эту болезненную тишину прорезалась тихая птичья песня.
Какая-то ночная птичка, которой не было никакого дела ни до войны, ни до человеческой боли, заливалась вовсю, растворенная в ночной темноте, веселая, легкая и, наверное, одинокая, – призывала к себе подружку, поскольку не положено в одиночестве коротать время, положено жить только вдвоем, в паре. Мягков застонал оглушенно, подергал головой.
– Не говорите маме, пожалуйста, – едва слышно прошептала Даша, – прошу вас…
Сзади, за спиной, послышался громкий говор – бойцы поднимались со своих мест, перекликались, начали передвигаться по дороге, совсем не опасаясь того, что какой-нибудь подстреленный бандит очнется и вслепую пальнет на голос, – значит, все, с «камышовыми» было покончено, это финиш, теперь надо было как можно быстрее доставить Дашу в город, к доктору.
В штабе отряда имелось два толковых доктора, Ломакин позаботился, привез их с собой, оба – специалисты по ранениям, народу спасли много, не дали уйти на тот свет. Мягков выпрямился, оглянулся на говор.
Совсем недалеко, метрах в двадцати от коменданта, двое бойцов наткнулись на убитую комсомолку, один из них не выдержал, выматерился, второй произнес подавленно, с удрученным удивлением:
– Надо же, девчонку положили, не пожалели, белорылые мерзавцы.
– Положить надо было бы того, кто послал ее сюда.
– Да вы чего, девки? – просипел он сквозь сжатые зубы. – Сейчас тут стрельба начнется…
Он приподнялся и начал делать рукой резкие, прибивающие движения.
– Ложись! Ложись! – продолжал едва различимо сипеть Мягков, кричать он не мог – «камышовые коты» находились совсем рядом и, надо полагать, находятся они в таком заведенном состоянии, что стрелять начнут, не задумываясь.
Девушки, идущие к ним в темноте, ничего не видели, ничего не слышали, – как шли, ни на что не обращая внимания, так и продолжали идти. И вот ведь как – одеты во все светлое, заметное издали, будто собрались на праздник, и беспечность их – праздничная…
– Ложись, ложись! – продолжал сипеть Мягков, скрещивал над собою руки, старался привлечь к себе внимание – куда там, все было бесполезно.
Внутри у Мягкова возникла неясная тоска, такое с ним случалось, когда на его глазах погибал кто-нибудь из близких людей. Бороться с этой тоской было нечем, лекарств не существовало никаких, конец могла положить только пуля, но это не выход… Мягков вновь стиснуто, едва слышно застонал.
И как не застонать, когда среди этих приметных в ночи дурех находится и его Даша, – именно его, это так и никак иначе, – за несколько часов она сделалась ему дорогой, близкой, хотя он с нею, кажется, даже не успел перейти на «ты», для обычного человеческого сближения, когда люди начинают доверять друг другу, просто не хватило времени.
Что делать? Мягков оглянулся, вгляделся в темноту, из которой должны были вывалиться «камышовые коты», ему показалось, что он засек некое смятое шевеление в пространстве, перемещения с места на место, и если это так, то, значит, через минуту-полторы бандиты выйдут на линию, которую можно будет накрыть огнем.
Что делать?
Не знал Мягков, что делать. В конце концов не выдержал, отодвинул винтовку в сторону, вскочил и, пригибаясь низко, будто над ним уже плакали пули, побежал к комсомолкам.
В это время сзади треснула земля. Непонятно, что произошло – то ли у бойцов не выдержали нервы, то ли бандиты засекли нечто неладное и поспешно открыли стрельбу, то ли настороженный, приготовившийся к бою, с натянутыми нервами Мягков среагировал на грохот так болезненно… В общем, все могло быть.
Над головой коменданта просвистело несколько пуль, он выпрямился и тут же сгорбился, едва ли не ткнувшись грудью в землю, прокричал что было силы – у него чуть жилы на шее не лопнули:
– Стой, девчонки! Дальше нельзя!
Под ногами дернулась земля, по сапогам жестко хлестнула подбитая взрывом пыль, пространство осветилось мертвенным серым светом. За спиной кто-то кинул гранату. Мягков вновь пригнулся и привычно замахал рукой:
– Сюда нельзя! Назад!
В следующий миг Мягков вспомнил о своей винтовке, развернулся круто, споткнулся и едва не полетел на землю. Но все же на ногах удержался, выругался и прихрамывая на одну ногу, побежал к ней. Перед ним, совсем недалеко, начали вспыхивать оранжевые, красные, синеватые бутоны, словно бы в воздухе распускались и тут же сворачивались, угасали диковинные цветы.
Это били «камышовые коты», патроны у них были в основном заморские, разномастные, трассирующие, поэтому темное ночное пространство так быстро превратилось в занятный цветной ситец.
Чем раньше они свернут шею «камышовым котам», тем меньше будет потерь в толпе несчастных комсомолок… А потери уже были – из темноты доносились протяжные крики. Так надрывно, тоскливо, громко могут кричать только раненые люди. Это Мягков знал по своему опыту, по войне.
Он распластался около своей винтовки, в то же мгновение передернул затвор. Привычно, словно бы всегда занимался этим, подцепил стволом винтовки недалекий, особенно ярко распустившийся бутон и нажал на спусковой крючок.
Бутон в то же мгновение погас, сквозь грохот стрельбы прорезался вопль. Попал. В другой раз удачный выстрел вызвал бы в Мягкове ощущение какого-нибудь победного удовлетворения, а сейчас родились раздражение, злость и одновременно далекая обида, он снова передернул затвор винтовки, подхватил концом ствола второй распустившийся бутон и опять нажал пальцем на спусковой крючок винтовки.
И снова попал – дряблую плоть ночи всколыхнул бычий рев – видать, подстреленный был человеком нехилого телосложения, мог справиться со стадом коров.
В голове сидела тоскливая мысль: как там Даша? Где она? Не угодила ли под залпы «камышовых»? Он верил в то, что не угодила, но в голове все равно сидела, не исчезала тревожная мысль о Даше. Мягков кусал зубами губы и цеплялся стволом винтовки за очередной всполох огня.
Минут через десять «камышовые коты» попятились – не прошли они через кордон, поставленный Мягковым, по обеим обочинам дороги стали отступать в темноту, и тут из ночи по ним ударили два пулемета задней засады.
Огонь был плотным, перекрестные струи свинца секли пространство и все, что в нем находилось, как капусту, мало кто из нападавших мог уцелеть в таком огне.
Понимая, что заслоны свое дело сделали, Мягков вновь отложил винтовку в сторону и бросился в темноту, туда, где осталась группа девушек-комсомолок.
Земля под ним кренилась неровно, уходя то в одну сторону, то в другую, уползала из-под ног, дважды комендант присел на четвереньки – почувствовал, что по нему стреляли из темноты, выстрелил ответно из нагана, – и через несколько минут наткнулся в темноте на лежащую девушку.
Девушка была мертва. Мягков опустился перед ней на колени и вслепую провел ладонью по волосам – ему показалось, что это была Даша. Но волосы у Даши были мягче, длиннее, они выбивались у Даши из-под косынки. А у этой девушки не могли выбиваться, она была острижена коротко, под мальчишку… Это была не Даша.
Мягков облегченно перевел дыхание. Один из пулеметов, работавших в задней засаде, смолк – то ли заклинило, то ли надо было вставлять новую ленту, отсюда не понять, что нужно делать, – но молчание пулемета вызвало у него беспокойство. Мягков прижался к земле и, вывернув голову, начал тщательно вглядываться в темноту.
Второй пулемет продолжал работать. Опытный пулеметчик бил экономно, короткими очередями, он видел то, чего не видел комендант, подхватывал цели на лету, на бегу, подстраховывал первого пулеметчика, ожидая, когда тот справится со своим «максимом».
Со вторым пулеметчиком повезло – если бы еще и его «максим» умолк, тогда пиши пропало, Мягков, как командир группы, мог угодить под ревтрибунал.
Полторы минуты, пока молчал первый пулемет, вызвали у Мягкова жжение под лопаткой, сильное жжение, – показалось, что ему ножом проткнули спину, пытались достать до сердца. Комендант протестующе стиснул зубы: «Не-ет…»
Наконец заработал первый пулемет, и обрадованный Мягков ладонью сгреб со лба горячий пот. Боль, возникшая в сердце, начала понемногу отступать, комок, возникший в глотке – комендант даже не заметил, как тот возник, – рассосался сам по себе.
Взглянув напоследок на мертвую девушку, – лицо ее в вязкой душной темноте почти светилось, картина была нереальной, – Мягков переместился дальше: увидел еще одну фигурку, лежавшую на земле без движения. Выматерился – ну, куда же вы, дурехи, полезли? Эх, оторвать бы голову вашему непутевому предводителю! Тьфу!
Через несколько мгновений он оказался около второго тела. Сдавил зубы, нижнюю губу прокусил до крови, внутри вновь возникло что-то нехорошее, острекающее: а вдруг это Даша?
Нет, это была не Даша. Мягков втянул в себя сквозь зубы воздух, выдохнул резко и двинулся дальше.
Дашу он нашел через полторы минуты: комсомольская группа почти целиком попала под первые залпы «камышовых котов» и легла прямо на дороге.
Даша была еще жива, она узнала Мягкова, улыбнулась слабо, очень испуганно, прошептала едва слышно:
– Это вы?
– Я, Даша, я! Ты не тревожься, я тебя сейчас к врачу доставлю. Потерпи, Даш!
В темноте было хорошо видно, как на лице Даши показалась кровь – вытекла из-под крыла носа, пролилась на щеку, оттуда тонкой струйкой – вниз, на шею.
– Вы только моей маме ничего не говорите, – прошептала Даша, – прошу вас.
Пулеметы к этой минуте смолкли – видать, с «камышовыми» было уже покончено, часть их положили, часть вернулась в плавни, – наступила звонкая, ломающая виски тишина, через несколько мгновений сквозь эту болезненную тишину прорезалась тихая птичья песня.
Какая-то ночная птичка, которой не было никакого дела ни до войны, ни до человеческой боли, заливалась вовсю, растворенная в ночной темноте, веселая, легкая и, наверное, одинокая, – призывала к себе подружку, поскольку не положено в одиночестве коротать время, положено жить только вдвоем, в паре. Мягков застонал оглушенно, подергал головой.
– Не говорите маме, пожалуйста, – едва слышно прошептала Даша, – прошу вас…
Сзади, за спиной, послышался громкий говор – бойцы поднимались со своих мест, перекликались, начали передвигаться по дороге, совсем не опасаясь того, что какой-нибудь подстреленный бандит очнется и вслепую пальнет на голос, – значит, все, с «камышовыми» было покончено, это финиш, теперь надо было как можно быстрее доставить Дашу в город, к доктору.
В штабе отряда имелось два толковых доктора, Ломакин позаботился, привез их с собой, оба – специалисты по ранениям, народу спасли много, не дали уйти на тот свет. Мягков выпрямился, оглянулся на говор.
Совсем недалеко, метрах в двадцати от коменданта, двое бойцов наткнулись на убитую комсомолку, один из них не выдержал, выматерился, второй произнес подавленно, с удрученным удивлением:
– Надо же, девчонку положили, не пожалели, белорылые мерзавцы.
– Положить надо было бы того, кто послал ее сюда.