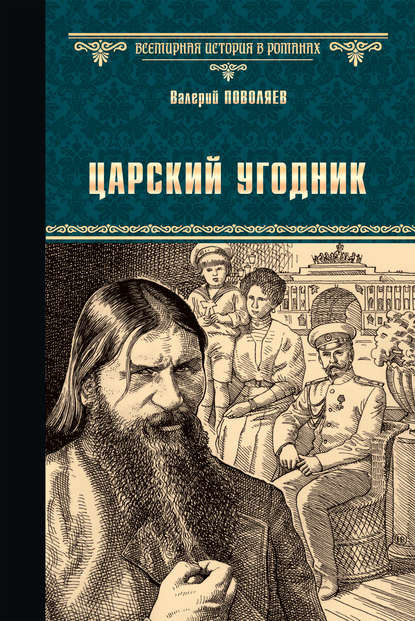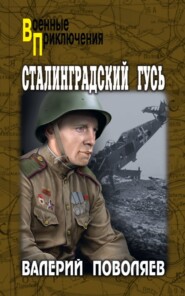По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Царский угодник
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не-ет, ты всетки моим обществом гребуешь!
– Ни в коем разе!
– Тогда чего же не идешь?
Журналист поднялся с лавки, взглянул на земца, словно бы прося прощения, – он был из тех людей, которые не любили обижать других, земец ответил ему гневным взором, и журналисту сделалось обидно: напрасно его не понимает человек, он же при исполнении служебных обязанностей – при исполнении! – и вышел из купе вслед за Распутиным.
Ему было интересно знать, кто едет с Распутиным. Для статьи, которую он задумал. Для собственной надобности, для того, чтобы иметь полное представление об этом человеке, в конце концов! Распутин чесал поясницу, поглядывал в открытую дверь купе, – и верно, чесать поясницу – любимое занятие Распутина: лицо у старца делалось расслабленным, задумчивым, губы сладостно опадали, прятались в бороде – видать, Распутин отдыхал душой, когда чесался.
Рядом с ним, по левую руку, сидела девчонка лет четырнадцати, одетая в простенькую голубую кофту, мешком наброшенную на ее тело, с пухлым носом – сказывалась петербургская простуда – и сонливыми глазками. Портрет завершали две тощие, похожие на яблоневые сучки, косички. Руки у девчонки были грубые, красные, с обожженной кожей, сама она была очень нервная – на месте не сидела. Журналист понял так: это дочь Распутина.
И верно – дочь, Матрена. Распутин сказал ей:
– Поди погуляй, Матреша!
Девчонка с топотом умчалась в коридор.
По правую руку старца сидела девчонка-гимназистка, тоненькая, белая, нежная, но с улыбкой человека, знающего, что такое грех.
– Садись! – Распутин, приглашая журналиста, ткнул перед собою рукой. – Хорошо, что пришел! Это Надя, – представил он гимназистку. – Едет в Сибирь понять смысл жизни. Родители живут в Санкт-Петербурге, но собираются переместиться в Тобольск.
«Что же тебя, такую молоденькую, занесло в эту компанию?» – с жалостью подумал журналист, хрустнул пальцами. Вслух же произнес совсем не то, что хотел сказать
– Очень приятно!
Дежурная фраза, дежурная схема поведения.
Из-под столика, покрытого дорожной салфеткой, Распутин достал бутылку вина с блеклой старой этикеткой, показал журналисту:
– Это вино было сделано в те годы, когда родители нас с тобой еще и не замышляли, а может, и еще раньше. Видишь, даже буквы от времени стерлись. Люблю это вино. Тебе, Надюш, налить? – Распутин покосился на гимназистку.
– Немного.
– И то хорошо, – одобрил Распутин, глянул в окно, за которым плыло одинокое вечернее поле с густыми рядами зелени и хилым зубчатым леском, обрамлявшим дальний край, ткнул туда рукой: – Вот за что надо выпить – за землю Русскую, за мужика, который ковыряется в ней, за зерно, что прорастет и станет хлебом.
– Хорошая мысль! – похвалил журналист.
– Эх, Лександра Иваныч! – неожиданно растроганно проговорил Распутин. – У меня этих мыслей полон черепок. – Он стукнул себя пальцами по голове. – Не вмещаются, переливают через край. И все для простого мужика, все за него – я жизнь свою за него не пожалею! – Распутин снова ткнул пальцем в окно, за которым тихо уплывало назад зеленое молчаливое поле. – За то, что он землю эту обиходил, бросил в нее зерно, заставил жить! И все вот этими вот, – он показал журналисту одну руку, свободную, левую, – такими вот руками обиходил. Выпьем за русского мужика!
Выпили. Гимназистка выпила тоже – она, похоже, вообще не любила отставать, маленькими глотками опустошила стопку, вытерла губы ладонью – в ней было сокрыто что-то очень детское, доверчивое, нежное, требующее защиты, и журналист, ощущая в себе отцовскую жалость, чуть было не сделал к ней движение, чтобы прикрыть ее; защитить от Распутина, но «укололся» о твердый, недобрый взгляд «старца». Ему показалось, что Распутин все понял, и журналист решил увести разговор в сторону, поднял стопку, чтобы резное стекло поймало темный вечерний свет.
– Доброе вино, – похвалил он.
Распутин, выдержав паузу, отозвался:
– Плохих не держим!
– Когда пьешь вино, главное – не вкус, а послевкусие, то, что остается на кончике языка. Последнюю каплю надо прижать языком к нёбу и послушать ее. Вкус этой капли и будет вкусом вина. Марсала всегда имела сложный вкус. Мадера – тоже. Вы, я слышал, мадеру любите?
– Люблю.
– Это вино с многослойным вкусом. В нем много чего есть: и жженая хлебная корочка, и сушеная груша, и еще что-то, не имеющее, по-моему, названия.
– Главное – варенья нет, – вставил Распутин, – не люблю, когда в вине – варенье. Не вино тогда это, а сироп.
– Да, варенья в ней нет, – согласился журналист.
– А ты, я вижу, специалист по этому делу, – сказал Распутин и добавил с непонятным выражением в голосе, то ли одобряя, то ли порицая: – Лександра Иваныч!
– Нет, – не согласился с Распутиным журналист, – просто я наблюдательный человек. Это же моя профессия – видеть, запоминать, описывать. Я слышал, Григорий Ефимович, что вы собираетесь организовать газету? Вроде бы и название уже есть – «Народная газета»?
– Что, разве плохое название? – Распутин смял бороду, подергал ее, потом пальцами расчесал, словно гребенкой, уложил на груди. Руки у него все время находились в движении, не лежали на месте. – Верно, я собираюсь основать газету, хотя название еще не придумал. А что, «Народная газета»… А? Звучит неплохо. Я думал даже такое название дать: «Специально для народа». Не очень-то вкусно, проволокой отдает, но зато верно. Пойдешь ко мне работать? – Распутин сощурился, отодвинулся от гимназистки и в упор глянул на журналиста.
Тот выдержал взгляд и спокойно поставил пустую стопку на столик.
– Я уже работаю.
– Буду платить больше!
– Разве в деньгах дело?
– Верно, не в деньгах. Я считаю – в грамоте. Какая моя самая большая беда и забота, а? Грамотешки маловато. Поднабраться бы грамотешки – и можно делать и газету, и книги, и даже целое издательство. Но ничего, ничего, грамотешку я все равно одолею, поднатужусь, подтяну ремешок на мозгах и одолею. И главное дело моей газеты будет борьба с пьянством. Я в молодости пил, очень пил, а потом понял, что это беда.
Александр Иванович вспомнил, что одна из газет напечатала приметную фразу Распутина, которую тот несколько раз произнес, встречаясь в Покровском со своими односельцами: «Я был пьяница, табакур, потом покаялся, и вот видите, что из этого вышло!»
Впрочем, в Покровском его хоть и уважали, но считали за своего. Впрочем, Тюмень его тоже принимала за своего и особо высоко не поднимала. Чужим он был только в Тобольске.
– Значит, не пойдешь ко мне в газету? – Распутин насмешливо сощурился.
– Не знаю. Не готов к предложению.
– А жаль! – искренне огорчился Распутин. – Мне нужны будут такие люди, как ты. И чтобы мозгой шевелить умели, и чтоб обаяние было. Непривлекательный человек – это непривлекательный человек, он многого не сделает. Особенно в таком деле, как это. – Распутин выразительно поводил по воздуху пальцем, изображая перо.
В купе всунулся молодой гражданин, которого журналист раньше не видел, – коротенький, с толстыми ногами, в желтых скрипучих туфлях, с золотой цепью через весь живот, в серой теплой шляпе. Рыжеватые усы распущены, топорщатся воинственно, как у гусара.
– Григорий Ефимыч, ничего не нужно-с?
– Принеси еще бутылку марсалы.
– Слушаюсь! – Рыжеусый вскинул к шляпе два пальца и исчез. Это был, как понял Александр Иванович, секретарь или нечто – некто – в этом роде. Через три минуты он снова появился в купе, держа в руке запыленную бутылку марсалы. – Прошу-с!
– Молодец! – похвалил Распутин. – И года не прошло!
– Обижаете, Григорий Ефимыч, – укоризненно произнес молодой гражданин, протягивая бутылку Распутину.
– А кто пробку выбивать будет? Я?
– Слушаюсь! – Рыжеусый вновь исчез из купе.
– Ни в коем разе!
– Тогда чего же не идешь?
Журналист поднялся с лавки, взглянул на земца, словно бы прося прощения, – он был из тех людей, которые не любили обижать других, земец ответил ему гневным взором, и журналисту сделалось обидно: напрасно его не понимает человек, он же при исполнении служебных обязанностей – при исполнении! – и вышел из купе вслед за Распутиным.
Ему было интересно знать, кто едет с Распутиным. Для статьи, которую он задумал. Для собственной надобности, для того, чтобы иметь полное представление об этом человеке, в конце концов! Распутин чесал поясницу, поглядывал в открытую дверь купе, – и верно, чесать поясницу – любимое занятие Распутина: лицо у старца делалось расслабленным, задумчивым, губы сладостно опадали, прятались в бороде – видать, Распутин отдыхал душой, когда чесался.
Рядом с ним, по левую руку, сидела девчонка лет четырнадцати, одетая в простенькую голубую кофту, мешком наброшенную на ее тело, с пухлым носом – сказывалась петербургская простуда – и сонливыми глазками. Портрет завершали две тощие, похожие на яблоневые сучки, косички. Руки у девчонки были грубые, красные, с обожженной кожей, сама она была очень нервная – на месте не сидела. Журналист понял так: это дочь Распутина.
И верно – дочь, Матрена. Распутин сказал ей:
– Поди погуляй, Матреша!
Девчонка с топотом умчалась в коридор.
По правую руку старца сидела девчонка-гимназистка, тоненькая, белая, нежная, но с улыбкой человека, знающего, что такое грех.
– Садись! – Распутин, приглашая журналиста, ткнул перед собою рукой. – Хорошо, что пришел! Это Надя, – представил он гимназистку. – Едет в Сибирь понять смысл жизни. Родители живут в Санкт-Петербурге, но собираются переместиться в Тобольск.
«Что же тебя, такую молоденькую, занесло в эту компанию?» – с жалостью подумал журналист, хрустнул пальцами. Вслух же произнес совсем не то, что хотел сказать
– Очень приятно!
Дежурная фраза, дежурная схема поведения.
Из-под столика, покрытого дорожной салфеткой, Распутин достал бутылку вина с блеклой старой этикеткой, показал журналисту:
– Это вино было сделано в те годы, когда родители нас с тобой еще и не замышляли, а может, и еще раньше. Видишь, даже буквы от времени стерлись. Люблю это вино. Тебе, Надюш, налить? – Распутин покосился на гимназистку.
– Немного.
– И то хорошо, – одобрил Распутин, глянул в окно, за которым плыло одинокое вечернее поле с густыми рядами зелени и хилым зубчатым леском, обрамлявшим дальний край, ткнул туда рукой: – Вот за что надо выпить – за землю Русскую, за мужика, который ковыряется в ней, за зерно, что прорастет и станет хлебом.
– Хорошая мысль! – похвалил журналист.
– Эх, Лександра Иваныч! – неожиданно растроганно проговорил Распутин. – У меня этих мыслей полон черепок. – Он стукнул себя пальцами по голове. – Не вмещаются, переливают через край. И все для простого мужика, все за него – я жизнь свою за него не пожалею! – Распутин снова ткнул пальцем в окно, за которым тихо уплывало назад зеленое молчаливое поле. – За то, что он землю эту обиходил, бросил в нее зерно, заставил жить! И все вот этими вот, – он показал журналисту одну руку, свободную, левую, – такими вот руками обиходил. Выпьем за русского мужика!
Выпили. Гимназистка выпила тоже – она, похоже, вообще не любила отставать, маленькими глотками опустошила стопку, вытерла губы ладонью – в ней было сокрыто что-то очень детское, доверчивое, нежное, требующее защиты, и журналист, ощущая в себе отцовскую жалость, чуть было не сделал к ней движение, чтобы прикрыть ее; защитить от Распутина, но «укололся» о твердый, недобрый взгляд «старца». Ему показалось, что Распутин все понял, и журналист решил увести разговор в сторону, поднял стопку, чтобы резное стекло поймало темный вечерний свет.
– Доброе вино, – похвалил он.
Распутин, выдержав паузу, отозвался:
– Плохих не держим!
– Когда пьешь вино, главное – не вкус, а послевкусие, то, что остается на кончике языка. Последнюю каплю надо прижать языком к нёбу и послушать ее. Вкус этой капли и будет вкусом вина. Марсала всегда имела сложный вкус. Мадера – тоже. Вы, я слышал, мадеру любите?
– Люблю.
– Это вино с многослойным вкусом. В нем много чего есть: и жженая хлебная корочка, и сушеная груша, и еще что-то, не имеющее, по-моему, названия.
– Главное – варенья нет, – вставил Распутин, – не люблю, когда в вине – варенье. Не вино тогда это, а сироп.
– Да, варенья в ней нет, – согласился журналист.
– А ты, я вижу, специалист по этому делу, – сказал Распутин и добавил с непонятным выражением в голосе, то ли одобряя, то ли порицая: – Лександра Иваныч!
– Нет, – не согласился с Распутиным журналист, – просто я наблюдательный человек. Это же моя профессия – видеть, запоминать, описывать. Я слышал, Григорий Ефимович, что вы собираетесь организовать газету? Вроде бы и название уже есть – «Народная газета»?
– Что, разве плохое название? – Распутин смял бороду, подергал ее, потом пальцами расчесал, словно гребенкой, уложил на груди. Руки у него все время находились в движении, не лежали на месте. – Верно, я собираюсь основать газету, хотя название еще не придумал. А что, «Народная газета»… А? Звучит неплохо. Я думал даже такое название дать: «Специально для народа». Не очень-то вкусно, проволокой отдает, но зато верно. Пойдешь ко мне работать? – Распутин сощурился, отодвинулся от гимназистки и в упор глянул на журналиста.
Тот выдержал взгляд и спокойно поставил пустую стопку на столик.
– Я уже работаю.
– Буду платить больше!
– Разве в деньгах дело?
– Верно, не в деньгах. Я считаю – в грамоте. Какая моя самая большая беда и забота, а? Грамотешки маловато. Поднабраться бы грамотешки – и можно делать и газету, и книги, и даже целое издательство. Но ничего, ничего, грамотешку я все равно одолею, поднатужусь, подтяну ремешок на мозгах и одолею. И главное дело моей газеты будет борьба с пьянством. Я в молодости пил, очень пил, а потом понял, что это беда.
Александр Иванович вспомнил, что одна из газет напечатала приметную фразу Распутина, которую тот несколько раз произнес, встречаясь в Покровском со своими односельцами: «Я был пьяница, табакур, потом покаялся, и вот видите, что из этого вышло!»
Впрочем, в Покровском его хоть и уважали, но считали за своего. Впрочем, Тюмень его тоже принимала за своего и особо высоко не поднимала. Чужим он был только в Тобольске.
– Значит, не пойдешь ко мне в газету? – Распутин насмешливо сощурился.
– Не знаю. Не готов к предложению.
– А жаль! – искренне огорчился Распутин. – Мне нужны будут такие люди, как ты. И чтобы мозгой шевелить умели, и чтоб обаяние было. Непривлекательный человек – это непривлекательный человек, он многого не сделает. Особенно в таком деле, как это. – Распутин выразительно поводил по воздуху пальцем, изображая перо.
В купе всунулся молодой гражданин, которого журналист раньше не видел, – коротенький, с толстыми ногами, в желтых скрипучих туфлях, с золотой цепью через весь живот, в серой теплой шляпе. Рыжеватые усы распущены, топорщатся воинственно, как у гусара.
– Григорий Ефимыч, ничего не нужно-с?
– Принеси еще бутылку марсалы.
– Слушаюсь! – Рыжеусый вскинул к шляпе два пальца и исчез. Это был, как понял Александр Иванович, секретарь или нечто – некто – в этом роде. Через три минуты он снова появился в купе, держа в руке запыленную бутылку марсалы. – Прошу-с!
– Молодец! – похвалил Распутин. – И года не прошло!
– Обижаете, Григорий Ефимыч, – укоризненно произнес молодой гражданин, протягивая бутылку Распутину.
– А кто пробку выбивать будет? Я?
– Слушаюсь! – Рыжеусый вновь исчез из купе.