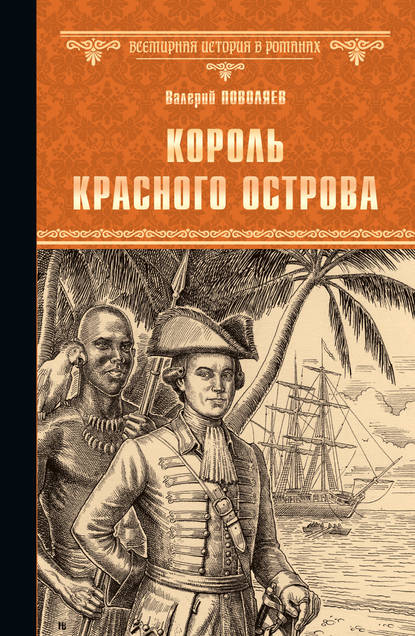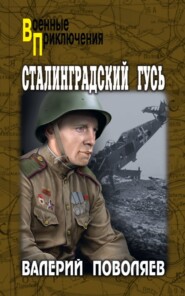По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Король Красного острова
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Приду, – Кузнецов согласно наклонил голову, – обязательно приду. Может быть, рыбы свежей сумею добыть – угощу тогда. И куропаток принесу – их много летает около Большерецка.
Днем тридцать первого декабря пурга начала стихать, словно бы природа специально давала возможность ссыльным собраться вместе и отметить праздник.
Собрались Беневский, Хрущев, Турчанинов, Гурьев, которого, несмотря ни на что, из компании решили пока не исключать, хотя поначалу думали вообще ликвидировать, Панов, лекарь Медер, Степанов, Алеша Устюжанинов, последним пришел Митяй Кузнецов – в общем, собрались все свои.
Когда разлили по глиняным плошкам водку, Хрущев, повертев плошку в пальцах, сказал:
– У меня на душе – большая тяжесть: через несколько минут начнется очередной год моего пребывания на этой грешной земле, на Камчатке. Хотя как выглядит Санкт-Петербург, я еще не забыл – помню и Невский проспект, и творение великого Монферрана – Исаакиевский собор, и набережные Фонтанки и Мойки, и стрелку Васильевского острова, – все помню очень хорошо, будто только вчера бродил по Петербургу… Но ни вчера, ни позавчера, ни позапозавчера я там не был. Все изменилось по злой воле. И я очень хорошо знаю, кого в этом винить, кто погрузил всех нас в черную беду, кого в этом винить, чье имя сделалось для меня ненавистным… Не только для меня – для вас тоже, – Хрущев замолчал, обвел блестящими глазами собравшихся. – Пусть Новый год принесет всем нам долгожданную свободу, – неожиданно севшим, тихим голосом закончил он.
– Да здравствует долгожданная свобода! – что было силы рявкнул Степанов.
Он уже успел втихую пропустить пару плошек, глаза у него были затуманенными.
– Не так громко, – осадил сподвижника Беневский, – вдруг под окном притаился какой-нибудь соглядатай Нилова и вострит теперь ухо на наши тосты.
– Да я его! – Степанов потянулся к висевшему на стене ружью, но Беневский удержал бывшего сочинителя неудачных проектов:
– Наше время еще не пришло, Ипполит Семенович, – трудное имя Степанова Беневский произнес без запинки, у него вообще была способность легко и быстро одолевать чужие языки и запоминать непростые слова. – Придет позже, потом, так что потерпите немного, пожалуйста.
Степанов мгновенно смолк, Беневский остановил громыхающую телегу на ходу, даже особых усилий не понадобилось.
– Выпьем за Новый тысяча семьсот семьдесят первый год, – торжественно провозгласил Хрущев, чокнулся поочередно со всеми, – пусть он станет годом нашей общей свободы, – он осушил плошку до дна и стряхнул капельки водки на пол.
В честь Нового года водки налили даже Алеше Устюжанинову и он от предложенной плошки не отказался.
Водку он пил первый раз в жизни, до этого не только не пробовал ее – даже не нюхал, от выпитого он чуть не свалился на пол, так ударила в голову «огненная вода», на глазах у парнишки выступили слезы. Он отвернулся от взрослых, чтобы те не видели его слабости, кулаком отер глаза.
Потянулся к куску рыбы, лежавшему на краю тарелки, неторопливо разжевал его – вел себя, как взрослый. Да и вообще Алеша Устюжанинов взрослел не по дням, а по часам.
После третьего тоста с лавки поднялся Семен Гурьев.
– А может, нам и не надо проклинать императрицу, господа? – неожиданно произнес он. Едва различимый шепелявый голос его услышали все, шум разом унялся, сделалось так тихо, что было слышно, как о стенки их дома скребется снег, да где-то недалеко тявкает греющаяся в сугробе собака.
На щеках Беневского заиграли недобрые желваки. А ведь он был неправ, не доведя задуманное до конца – Семена Гурьева нужно было убрать в прошлый раз, после первого его выступления. Убрать и зарыть в снегу до весны.
– Как не надо? – спросил он. Было видно, что Беневский с трудом сдерживает себя. – Как не надо? Ты опять за свое, Семен?
– Царица – женщина добрая, – сглотнув скопившуюся во рту слюну, прежним слабым голосом продолжил Гурьев, – напишем ей прошение в Санкт-Петербург, она и простит нас. А так нам вырвут языки, отрежут ноги и руки, отрубят головы и насадят их на колы. Я готов написать такое прошение, готов поклясться царице, что отслужу благодарностью на полях битв, укрепляя мощь России.
Немо, страшно, как и в прошлый раз, захрипел старик Турчанинов, кинулся на Гурьева: хы-ы-ы-ы! – но его успел перехватить Хрущев. Сдержал.
– Вот что, Семен, – произнес он жестко, тихо, с металлом в голосе, – уходи, не порти нам праздничную компанию. Уходи!
Понимающе кивнув, Гурьев шагнул к двери, дрожащими руками зашарил по вешалке, на которой висела его одежда.
– И еще, Семен, – Хрущев повысил голос. – В прошлый раз ты проболтался про наши дела купцу… Хорошо, Нилов не поверил ни одному его слову, поверил нам. Но если ты ляпнешь еще где-нибудь хотя бы полслова, то можешь догадаться, что с тобою будет, – видя, как ежится Гурьев. Хрущев добавил: – Это наше общее решение. Мы тебя убьем… Понял, Семен?
– Понял, – пробормотал Гурьев глухо и, поспешно потянув дверь на себя, шагнул в темноту, в завихренное колючим снегом ночное пространство.
Пути-дороги с заговорщиками разошлись у него навсегда. Степанов, сжав пальцы в кулак, ожесточенно опечатал им воздух.
– Я бы не стал отпускать его, – прокричал он зло, хрипло, – я бы его… Он предаст нас! Вот увидите – обязательно предаст!
– Посмотрим, – неопределенно проговорил Беневский, – но быть осторожным стоит определенно. Иногда – очень осторожным.
В голове у Алеши Устюжанинова гудело, позвякивало, словно бы кто-то набросал туда железок, он боком пробрался к своей кровати, ткнулся головой в подушку и уснул.
Очнулся он от толчков в бок, открыл глаза и увидел Беневского. Тот стоял над ним и улыбался.
– Мяса оленьего, горячего хочешь? С бульоном. Петр Петрович сварил. С кореньями и сладкими травами.
– Хочу, – Алеша обрадовано потянулся.
– С нынешнего дня, с первого числа января я назначаю тебя своим адъютантом, – произнес Беневский с торжественными нотками в голосе. – Согласен на это?
– Так точно, согласен, – сказал Алеша, хотя не знал, что такое адъютант, а спросить – пороха не хватило.
Он сбросил ноги на пол, поднялся рывком – видел, как это делают взрослые.
– А ты молодец, – сказал ему Беневский, – водку выпил – не поморщился, хотя я по себе знаю, как она ошпаривает рот…
– Очень горькая, – пожаловался Алеша.
– Теперь съешь мяса и выпей бульона, – в голосе Беневского прозвучали теплые нотки, – и все встанет на свои места.
Так Алеша Устюжанинов и поступил.
Большой любитель выпить комендант Нилов на Новый год, как ни странно, не пил, к водке даже не прикоснулся – пребывал в мрачном состоянии, думал о чем-то своем, тяжелом, способном придавить любую душу к земле, на вопросы не отвечал, лишь раздраженно отмахивался, да молчал.
Сын его Григорий – беспечный, белоголовый, капризный, весь Новый год лакомился орехами. Для этого сотник специально отрядил ему караульного солдата, тот разгрызал крепкие скорлупки, вытаскивал из раздавленной оболочки ядра и отдавал мальчишке. Младший Нилов радовался – вкусно очень. И зубы свои не надо портить, ломать – солдат расправляется с ними играючи.
Понимая, что отец подавлен, лицо у него серое, больное, глаза слезятся, с ним вообще происходит что-то нехорошее, Гришка подергал его за рукав.
– Ты выпей, тятенька, тебе легче станет, – посоветовал.
В ответ комендант только вздохнул и отрицательно покачал головой, в глазах его вспыхнула и погасла боль.
– Не время, сынок, – проговорил он тихим незнакомым голосом. – Не время.
Он понял – наконец-то! – что заговор в Большерецке готовится действительно и во главе его стоит человек, к которому он относится хорошо, постоянно жалует вниманием и часто приглашает к себе в дом – Маурицы Беневский.
С Беневским – еще несколько человек: хозяин хаты, приютивший поляка – Петр Хрущев, смешной старик Магнус Медер (смешной-то смешной, но лекарь очень хороший), тут же и второй старик, безъязыкий, с вырванными ноздрями, Алексей Турчанинов, бывшие офицеры Панов, Батурин, Степанов, иностранец Винблад – в общем, набралась полная кошелка злодеев.
Комендант поморщился, словно от боли, повел головой в одну сторону, потом в другую – воротник, который никогда не был тесным, начал туго сжимать ему шею, – ну будто бы на Нилова накинули петлю.
С одной стороны, надо было немедленно действовать и Нилов хорошо понимал это, а с другой – силенок у него было маловато: из семидесяти солдат и казаков, находившихся под началом коменданта, сорок три пребывали в разъездах. Несмотря на зимнюю пору, непролазные снега, они регулярно возникали в самых разных углах Камчатки, собирали дань для царской казны – ясак, «меховую рухлядь», драгоценные собольи шкурки, лисьи и горностаевые снизки… По мнению Нилова, на Камчатке водился самый ценный в Российской империи соболь, он был, на его взгляд, даже ценнее знаменитого баргузинского.
Но местные жители – коряки, алеуты, камчадалы, – цену соболю не знали, иногда дорогими собольими шкурками подбивали себе лыжи.
Днем тридцать первого декабря пурга начала стихать, словно бы природа специально давала возможность ссыльным собраться вместе и отметить праздник.
Собрались Беневский, Хрущев, Турчанинов, Гурьев, которого, несмотря ни на что, из компании решили пока не исключать, хотя поначалу думали вообще ликвидировать, Панов, лекарь Медер, Степанов, Алеша Устюжанинов, последним пришел Митяй Кузнецов – в общем, собрались все свои.
Когда разлили по глиняным плошкам водку, Хрущев, повертев плошку в пальцах, сказал:
– У меня на душе – большая тяжесть: через несколько минут начнется очередной год моего пребывания на этой грешной земле, на Камчатке. Хотя как выглядит Санкт-Петербург, я еще не забыл – помню и Невский проспект, и творение великого Монферрана – Исаакиевский собор, и набережные Фонтанки и Мойки, и стрелку Васильевского острова, – все помню очень хорошо, будто только вчера бродил по Петербургу… Но ни вчера, ни позавчера, ни позапозавчера я там не был. Все изменилось по злой воле. И я очень хорошо знаю, кого в этом винить, кто погрузил всех нас в черную беду, кого в этом винить, чье имя сделалось для меня ненавистным… Не только для меня – для вас тоже, – Хрущев замолчал, обвел блестящими глазами собравшихся. – Пусть Новый год принесет всем нам долгожданную свободу, – неожиданно севшим, тихим голосом закончил он.
– Да здравствует долгожданная свобода! – что было силы рявкнул Степанов.
Он уже успел втихую пропустить пару плошек, глаза у него были затуманенными.
– Не так громко, – осадил сподвижника Беневский, – вдруг под окном притаился какой-нибудь соглядатай Нилова и вострит теперь ухо на наши тосты.
– Да я его! – Степанов потянулся к висевшему на стене ружью, но Беневский удержал бывшего сочинителя неудачных проектов:
– Наше время еще не пришло, Ипполит Семенович, – трудное имя Степанова Беневский произнес без запинки, у него вообще была способность легко и быстро одолевать чужие языки и запоминать непростые слова. – Придет позже, потом, так что потерпите немного, пожалуйста.
Степанов мгновенно смолк, Беневский остановил громыхающую телегу на ходу, даже особых усилий не понадобилось.
– Выпьем за Новый тысяча семьсот семьдесят первый год, – торжественно провозгласил Хрущев, чокнулся поочередно со всеми, – пусть он станет годом нашей общей свободы, – он осушил плошку до дна и стряхнул капельки водки на пол.
В честь Нового года водки налили даже Алеше Устюжанинову и он от предложенной плошки не отказался.
Водку он пил первый раз в жизни, до этого не только не пробовал ее – даже не нюхал, от выпитого он чуть не свалился на пол, так ударила в голову «огненная вода», на глазах у парнишки выступили слезы. Он отвернулся от взрослых, чтобы те не видели его слабости, кулаком отер глаза.
Потянулся к куску рыбы, лежавшему на краю тарелки, неторопливо разжевал его – вел себя, как взрослый. Да и вообще Алеша Устюжанинов взрослел не по дням, а по часам.
После третьего тоста с лавки поднялся Семен Гурьев.
– А может, нам и не надо проклинать императрицу, господа? – неожиданно произнес он. Едва различимый шепелявый голос его услышали все, шум разом унялся, сделалось так тихо, что было слышно, как о стенки их дома скребется снег, да где-то недалеко тявкает греющаяся в сугробе собака.
На щеках Беневского заиграли недобрые желваки. А ведь он был неправ, не доведя задуманное до конца – Семена Гурьева нужно было убрать в прошлый раз, после первого его выступления. Убрать и зарыть в снегу до весны.
– Как не надо? – спросил он. Было видно, что Беневский с трудом сдерживает себя. – Как не надо? Ты опять за свое, Семен?
– Царица – женщина добрая, – сглотнув скопившуюся во рту слюну, прежним слабым голосом продолжил Гурьев, – напишем ей прошение в Санкт-Петербург, она и простит нас. А так нам вырвут языки, отрежут ноги и руки, отрубят головы и насадят их на колы. Я готов написать такое прошение, готов поклясться царице, что отслужу благодарностью на полях битв, укрепляя мощь России.
Немо, страшно, как и в прошлый раз, захрипел старик Турчанинов, кинулся на Гурьева: хы-ы-ы-ы! – но его успел перехватить Хрущев. Сдержал.
– Вот что, Семен, – произнес он жестко, тихо, с металлом в голосе, – уходи, не порти нам праздничную компанию. Уходи!
Понимающе кивнув, Гурьев шагнул к двери, дрожащими руками зашарил по вешалке, на которой висела его одежда.
– И еще, Семен, – Хрущев повысил голос. – В прошлый раз ты проболтался про наши дела купцу… Хорошо, Нилов не поверил ни одному его слову, поверил нам. Но если ты ляпнешь еще где-нибудь хотя бы полслова, то можешь догадаться, что с тобою будет, – видя, как ежится Гурьев. Хрущев добавил: – Это наше общее решение. Мы тебя убьем… Понял, Семен?
– Понял, – пробормотал Гурьев глухо и, поспешно потянув дверь на себя, шагнул в темноту, в завихренное колючим снегом ночное пространство.
Пути-дороги с заговорщиками разошлись у него навсегда. Степанов, сжав пальцы в кулак, ожесточенно опечатал им воздух.
– Я бы не стал отпускать его, – прокричал он зло, хрипло, – я бы его… Он предаст нас! Вот увидите – обязательно предаст!
– Посмотрим, – неопределенно проговорил Беневский, – но быть осторожным стоит определенно. Иногда – очень осторожным.
В голове у Алеши Устюжанинова гудело, позвякивало, словно бы кто-то набросал туда железок, он боком пробрался к своей кровати, ткнулся головой в подушку и уснул.
Очнулся он от толчков в бок, открыл глаза и увидел Беневского. Тот стоял над ним и улыбался.
– Мяса оленьего, горячего хочешь? С бульоном. Петр Петрович сварил. С кореньями и сладкими травами.
– Хочу, – Алеша обрадовано потянулся.
– С нынешнего дня, с первого числа января я назначаю тебя своим адъютантом, – произнес Беневский с торжественными нотками в голосе. – Согласен на это?
– Так точно, согласен, – сказал Алеша, хотя не знал, что такое адъютант, а спросить – пороха не хватило.
Он сбросил ноги на пол, поднялся рывком – видел, как это делают взрослые.
– А ты молодец, – сказал ему Беневский, – водку выпил – не поморщился, хотя я по себе знаю, как она ошпаривает рот…
– Очень горькая, – пожаловался Алеша.
– Теперь съешь мяса и выпей бульона, – в голосе Беневского прозвучали теплые нотки, – и все встанет на свои места.
Так Алеша Устюжанинов и поступил.
Большой любитель выпить комендант Нилов на Новый год, как ни странно, не пил, к водке даже не прикоснулся – пребывал в мрачном состоянии, думал о чем-то своем, тяжелом, способном придавить любую душу к земле, на вопросы не отвечал, лишь раздраженно отмахивался, да молчал.
Сын его Григорий – беспечный, белоголовый, капризный, весь Новый год лакомился орехами. Для этого сотник специально отрядил ему караульного солдата, тот разгрызал крепкие скорлупки, вытаскивал из раздавленной оболочки ядра и отдавал мальчишке. Младший Нилов радовался – вкусно очень. И зубы свои не надо портить, ломать – солдат расправляется с ними играючи.
Понимая, что отец подавлен, лицо у него серое, больное, глаза слезятся, с ним вообще происходит что-то нехорошее, Гришка подергал его за рукав.
– Ты выпей, тятенька, тебе легче станет, – посоветовал.
В ответ комендант только вздохнул и отрицательно покачал головой, в глазах его вспыхнула и погасла боль.
– Не время, сынок, – проговорил он тихим незнакомым голосом. – Не время.
Он понял – наконец-то! – что заговор в Большерецке готовится действительно и во главе его стоит человек, к которому он относится хорошо, постоянно жалует вниманием и часто приглашает к себе в дом – Маурицы Беневский.
С Беневским – еще несколько человек: хозяин хаты, приютивший поляка – Петр Хрущев, смешной старик Магнус Медер (смешной-то смешной, но лекарь очень хороший), тут же и второй старик, безъязыкий, с вырванными ноздрями, Алексей Турчанинов, бывшие офицеры Панов, Батурин, Степанов, иностранец Винблад – в общем, набралась полная кошелка злодеев.
Комендант поморщился, словно от боли, повел головой в одну сторону, потом в другую – воротник, который никогда не был тесным, начал туго сжимать ему шею, – ну будто бы на Нилова накинули петлю.
С одной стороны, надо было немедленно действовать и Нилов хорошо понимал это, а с другой – силенок у него было маловато: из семидесяти солдат и казаков, находившихся под началом коменданта, сорок три пребывали в разъездах. Несмотря на зимнюю пору, непролазные снега, они регулярно возникали в самых разных углах Камчатки, собирали дань для царской казны – ясак, «меховую рухлядь», драгоценные собольи шкурки, лисьи и горностаевые снизки… По мнению Нилова, на Камчатке водился самый ценный в Российской империи соболь, он был, на его взгляд, даже ценнее знаменитого баргузинского.
Но местные жители – коряки, алеуты, камчадалы, – цену соболю не знали, иногда дорогими собольими шкурками подбивали себе лыжи.