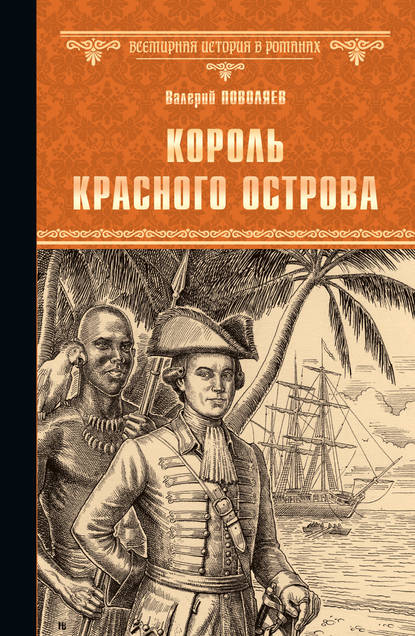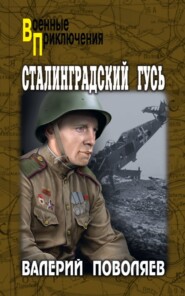По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Король Красного острова
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сахару – 12 пудов
Сыру и масла – 10 пудов
Чаю – 12 пудов
Водки – 5 бочонков».
Кое-где Алеша, мне кажется, переборщил, либо ошибся. Пуд – это шестнадцать килограммов, тяжесть приличная. Двенадцать пудов – это 192 килограмма. 192 килограмма чая – гора высотой под мачты галиота; чай – продукт легкий, в тесный трюм, где было полно других грузов, мог не вместиться.
Это первое. И второе – запас еды брали на месяц. За месяц выпить двенадцать пудов чая? Сомнительная штука.
Пить чай «Святого Петра» в таком разе должны были команды всех кораблей и судов, находившихся в Охотском море, в Тихом и Индийском океанах.
В других бумагах указания на чай отсутствуют.
Понимая, что в море может произойти какая-нибудь непредвиденная встреча, Беневский велел взять с собою различные флаги, чтобы в нужный момент их можно было поднять на мачтах и совершить «боковой маневр», уходя от возможной опасности.
Все это время Алеша Устюжанинов находился на «Святом Петре» – помогал взрослым, и на это имелись причины. Там дневал и ночевал. Иногда плакал – выходило ведь так, что он уплывет с Камчатки, не попрощавшись с отцом.
Пространство перед его глазами начинало ползти, раздваиваться, делаться радужным, покрываться мокрыми пятнами, и Алеша невольно всхлипывал, зажимал зубами готовый вырваться наружу стон:
– Тя-ятенька!
Надо было обязательно взять что-нибудь с собою на память о Камчатке. Вот только что? Высушенную голову большой чавычи – очень вкусной местной рыбы с нежным красным мясом, которую любит вся Камчатка?
Или десятка полтора комаров, которые скоро должны проснуться – сунуть их в солонку и сверху накрыть крышкой. Комары на Камчатке водятся знатные, таких в теплых райских странах наверняка нет. Есть еще один камчатский зверь, еще более знатный, обычный комар перед ним – невинный младенец. Этот зверь – гнус. Мелкий, с тощим голоскам, похожий на сгнившее зернышко. Человека стая гнуса может обгрызть до костей. Как гнус оставляет от собак шкуру да хребет, Алеша видел.
Нет, это неприятное напоминание о Камчатке брать с собою все-таки не стоит. Может быть, взять местную раковину? Плоскую, с красивым рельефным рисунком… Но в южных водах наверняка водятся раковины покрасивее, попригляднее…
Думал, думал Алеша, нижнюю губу закусил зубами до крови и не выдержал: рот у него неожиданно задрожал, на ресницах повисли слезы: как же он теперь будет жить без отца?
Вздохнул Алеша, внутри у него возникло что-то сосущее, родившее боль – а может быть, не уезжать с Беневским? Пропадет он.
Дни перед отплытием установились золотые – с высоким солнцем, нежно пощипливавшим щеки, звонким птичьим пением и нестерпимой резью снега, светившимся на макушках недалеких вулканических гор, – иногда оттуда приносился влажный ветер… Если дело пойдет так и дальше, то снега скоро не станет и на вершинах гор.
Снег тает быстро, а вот лед нет, сорок с лишним человек мучились с ним, пробивая канал для выхода в море, но пробить пока не смогли.
На проталинах, из отсыревшей земли наверх проклевывались тугие зеленые стрелки, распускались прямо на глазах, рождая в душе радость и одновременно грусть, – это были подснежники. Подснежники Алеша Устюжанинов любил, они умели отогревать людям душу, гнали прочь из головы недобрые мысли, – удивлялся им Алеша: и как только подснежники умудряются выживать, когда рядом находятся лед и снег? Из бездонного чистого неба тоже может повалить снег – в любую минуту… Нет, не укладывалось это у Алеши Устюжанинова в голове.
Выплакавшись, он снова начинал носиться по судну, помогал взрослым укладывать такелаж, укрывать шкурами порох, чтобы он не отсырел в море, устраивать в трюме бочонки с солониной, подвешивать на крюки связки дорогих собольих и лисьих шкур – весело было…
А вот Беневский, напротив, с каждым днем становился все более хмурым, и Алеша совсем не понимал его: ведь радоваться надо было, скоро – отплытие, с отплытием – свобода, никакой капитан Нилов уже не будет вешать на шею хомут и грозить «холодной», но Беневский, наоборот, мрачнел все сильнее, на лбу возникали вертикальные складки, да на щеках вспухали твердые желваки.
Что-то происходило не так, как должно было происходить, и это Алеша Устюжанинов ощущал буквально кожей своей мальчишеской, еще не огрубевшей, ощущал отчетливо.
В конце концов он решил, что возьмет с собою как память о Камчатке, об отце своем, – кроме двух иконок, которые у него были, Иисуса Христа и Святой Девы Марии, – костяную фигурку косоглазого щекастого человечка с очень добрым улыбающимся личиком. Таких людей на Камчатке было много: и орочены, и коряки, и камчадалы, и алеуты… Да и сам Алеша Устюжанинов был таким же.
Беневский был мрачен потому, что хорошо понимал происходящее и остро реагировал на все, он корнями волос, кончиками пальцев чувствовал опасность, в Охотске ведь наверняка уже знают, что произошло в Большерецке, ждут-недождутся момента, когда можно будет подойти на вооруженных галиотах к острогу, стать на якорь в Чекавинской или в Большерецкой бухте и развесить на деревьях бунтовщиков.
Морщился Беневский, потирал пальцами неожиданно начавшую саднить шею – ну будто ему знак откуда-то из горних высей подавали и его длинная шея уже чувствовала веревку.
В последние дни прорубкой канала руководил сам Хрущев, никому это не доверял.
– Ну как? – спрашивал у него каждый вечер Беневский и получал односложный хмурый ответ:
– Осталось совсем немного.
Беневский понимающе кивал и отворачивался к окну, чтобы скрыть сдавленный вздох: если дело так будет идти и дальше, то несчастная шея его познакомится с грубой, намазанной мылом веревкой не в неприятных мыслях, а наяву. Чего-чего, а этого Беневскому очень не хотелось бы. Жизнь они никак не украшают.
Беневский отталкивался рукой от стены, в которую было врезано оконце и разворачивался лицом к Хрущеву, чтобы поговорить с ним, а говорить было уже не с кем – вконец измотанный Хрущев спал, повалившись спиной на кровать и приоткрыв бледный морщинистый рот, обрамленный спутанным волосом бороды и усов.
От жалости у Беневского сжималось сердце – Хрущев в эти дни работал на износ. Некоторое время Маурицы стоял у окна, соображая, что же делать, если неожиданно появятся люди из Охотска, какой отпор им можно будет организовать, и болезненно морщился: серьезного отпора дать он не сумеет.
Выходит, надо молить Бога, чтобы не покидал их, помог, иначе будет плохо… Из Большерецка нужно уйти раньше, чем сюда придут люди из Охотска.
Вытащив из-за пояса заряженные пистолеты, Беневский пристроил их на самодельной тумбочке, придвинутой к кровати, задул чадящий фитиль коптюшки. Коптюшка была заправлена старым рыбьим жиром и припахивала странной горькой тухлятиной.
Жир, заготовленный осенью, во время нерестового хода кижуча, уже кончился – все запасы съели бунтовские собрания, затягивающиеся до середины ночи.
– Ну что ж, правильно говорят русские: утро вечера мудренее, – пробормотал Беневский, смыкая веки, – подождем, что нам принесет утро.
Через два дня команда Хрущева, прорубавшая канал, работу закончила.
Беневский, обычно невозмутимый, спокойный, не удержался и с веселым школярским гиканьем подбросил вверх треуголку.
– Мы победили! – прокричал он что было мочи, поймал треуголку и снова подбросил ее – вел себя он, как гимназист, перешедший в очередной класс. – Слава тебе, Господи!
Отплытие было назначено на двенадцатое мая. Двенадцатое мая! Беневский удивленно почесал голову – еще вчера отмечали Рождество и Новый год, за стенкой дома свистели кудрявые синие метели, мороз раскалывал пополам камни, а сегодня уже – май, двенадцатое число! Как быстро идет время! Правда, двенадцатое число еще не наступило, но очень скоро наступит.
Хочу повториться и подчеркнуть, что количество тех, кто отплывал двенадцатого мая в неведомое, до сих пор называют разное. Беневский в своих «Путешествиях и воспоминаниях» привел, например, две цифры: 109 и 99, причем, у тех, кто изучал его «Путешествия» с лупой в руке, невольно возникало впечатление, что он путал цифры, блефовал, как в картах, Рюмин и Судейкин называли другое число – семьдесят.
Алеша Устюжанинов в своих записях приводит еще одну цифру – 96. И дает следующий расклад:
«Ссыльных – 8,
Охотников и рабочих – 32,
Матросов с «Петра» и «Екатерины» – 39,
Остальных – 17».
Я все-таки склонен больше верить Устюжанинову: он еще не успел обучиться «ловкости рук» и «невидимым маневрам», житейскому вранью, а значит, не научился обманывать… С другой стороны, подсчет тех, кто плыл на «Святом Петре», можно было производить в разное время – и перед отплытием, и в середине пути, и на островах, где бунтовщики осели на постоянное житье. Везде эта цифра была разной.
Подсчитал Устюжанинов и количество шкур, которые беглецы везли с собой – этим мехом можно было одеть половину Парижа. Впрочем, тогда Алеша еще не знал, что на свете есть такой город.
«Соболей – 1900,
Бобров – 748,
Сыру и масла – 10 пудов
Чаю – 12 пудов
Водки – 5 бочонков».
Кое-где Алеша, мне кажется, переборщил, либо ошибся. Пуд – это шестнадцать килограммов, тяжесть приличная. Двенадцать пудов – это 192 килограмма. 192 килограмма чая – гора высотой под мачты галиота; чай – продукт легкий, в тесный трюм, где было полно других грузов, мог не вместиться.
Это первое. И второе – запас еды брали на месяц. За месяц выпить двенадцать пудов чая? Сомнительная штука.
Пить чай «Святого Петра» в таком разе должны были команды всех кораблей и судов, находившихся в Охотском море, в Тихом и Индийском океанах.
В других бумагах указания на чай отсутствуют.
Понимая, что в море может произойти какая-нибудь непредвиденная встреча, Беневский велел взять с собою различные флаги, чтобы в нужный момент их можно было поднять на мачтах и совершить «боковой маневр», уходя от возможной опасности.
Все это время Алеша Устюжанинов находился на «Святом Петре» – помогал взрослым, и на это имелись причины. Там дневал и ночевал. Иногда плакал – выходило ведь так, что он уплывет с Камчатки, не попрощавшись с отцом.
Пространство перед его глазами начинало ползти, раздваиваться, делаться радужным, покрываться мокрыми пятнами, и Алеша невольно всхлипывал, зажимал зубами готовый вырваться наружу стон:
– Тя-ятенька!
Надо было обязательно взять что-нибудь с собою на память о Камчатке. Вот только что? Высушенную голову большой чавычи – очень вкусной местной рыбы с нежным красным мясом, которую любит вся Камчатка?
Или десятка полтора комаров, которые скоро должны проснуться – сунуть их в солонку и сверху накрыть крышкой. Комары на Камчатке водятся знатные, таких в теплых райских странах наверняка нет. Есть еще один камчатский зверь, еще более знатный, обычный комар перед ним – невинный младенец. Этот зверь – гнус. Мелкий, с тощим голоскам, похожий на сгнившее зернышко. Человека стая гнуса может обгрызть до костей. Как гнус оставляет от собак шкуру да хребет, Алеша видел.
Нет, это неприятное напоминание о Камчатке брать с собою все-таки не стоит. Может быть, взять местную раковину? Плоскую, с красивым рельефным рисунком… Но в южных водах наверняка водятся раковины покрасивее, попригляднее…
Думал, думал Алеша, нижнюю губу закусил зубами до крови и не выдержал: рот у него неожиданно задрожал, на ресницах повисли слезы: как же он теперь будет жить без отца?
Вздохнул Алеша, внутри у него возникло что-то сосущее, родившее боль – а может быть, не уезжать с Беневским? Пропадет он.
Дни перед отплытием установились золотые – с высоким солнцем, нежно пощипливавшим щеки, звонким птичьим пением и нестерпимой резью снега, светившимся на макушках недалеких вулканических гор, – иногда оттуда приносился влажный ветер… Если дело пойдет так и дальше, то снега скоро не станет и на вершинах гор.
Снег тает быстро, а вот лед нет, сорок с лишним человек мучились с ним, пробивая канал для выхода в море, но пробить пока не смогли.
На проталинах, из отсыревшей земли наверх проклевывались тугие зеленые стрелки, распускались прямо на глазах, рождая в душе радость и одновременно грусть, – это были подснежники. Подснежники Алеша Устюжанинов любил, они умели отогревать людям душу, гнали прочь из головы недобрые мысли, – удивлялся им Алеша: и как только подснежники умудряются выживать, когда рядом находятся лед и снег? Из бездонного чистого неба тоже может повалить снег – в любую минуту… Нет, не укладывалось это у Алеши Устюжанинова в голове.
Выплакавшись, он снова начинал носиться по судну, помогал взрослым укладывать такелаж, укрывать шкурами порох, чтобы он не отсырел в море, устраивать в трюме бочонки с солониной, подвешивать на крюки связки дорогих собольих и лисьих шкур – весело было…
А вот Беневский, напротив, с каждым днем становился все более хмурым, и Алеша совсем не понимал его: ведь радоваться надо было, скоро – отплытие, с отплытием – свобода, никакой капитан Нилов уже не будет вешать на шею хомут и грозить «холодной», но Беневский, наоборот, мрачнел все сильнее, на лбу возникали вертикальные складки, да на щеках вспухали твердые желваки.
Что-то происходило не так, как должно было происходить, и это Алеша Устюжанинов ощущал буквально кожей своей мальчишеской, еще не огрубевшей, ощущал отчетливо.
В конце концов он решил, что возьмет с собою как память о Камчатке, об отце своем, – кроме двух иконок, которые у него были, Иисуса Христа и Святой Девы Марии, – костяную фигурку косоглазого щекастого человечка с очень добрым улыбающимся личиком. Таких людей на Камчатке было много: и орочены, и коряки, и камчадалы, и алеуты… Да и сам Алеша Устюжанинов был таким же.
Беневский был мрачен потому, что хорошо понимал происходящее и остро реагировал на все, он корнями волос, кончиками пальцев чувствовал опасность, в Охотске ведь наверняка уже знают, что произошло в Большерецке, ждут-недождутся момента, когда можно будет подойти на вооруженных галиотах к острогу, стать на якорь в Чекавинской или в Большерецкой бухте и развесить на деревьях бунтовщиков.
Морщился Беневский, потирал пальцами неожиданно начавшую саднить шею – ну будто ему знак откуда-то из горних высей подавали и его длинная шея уже чувствовала веревку.
В последние дни прорубкой канала руководил сам Хрущев, никому это не доверял.
– Ну как? – спрашивал у него каждый вечер Беневский и получал односложный хмурый ответ:
– Осталось совсем немного.
Беневский понимающе кивал и отворачивался к окну, чтобы скрыть сдавленный вздох: если дело так будет идти и дальше, то несчастная шея его познакомится с грубой, намазанной мылом веревкой не в неприятных мыслях, а наяву. Чего-чего, а этого Беневскому очень не хотелось бы. Жизнь они никак не украшают.
Беневский отталкивался рукой от стены, в которую было врезано оконце и разворачивался лицом к Хрущеву, чтобы поговорить с ним, а говорить было уже не с кем – вконец измотанный Хрущев спал, повалившись спиной на кровать и приоткрыв бледный морщинистый рот, обрамленный спутанным волосом бороды и усов.
От жалости у Беневского сжималось сердце – Хрущев в эти дни работал на износ. Некоторое время Маурицы стоял у окна, соображая, что же делать, если неожиданно появятся люди из Охотска, какой отпор им можно будет организовать, и болезненно морщился: серьезного отпора дать он не сумеет.
Выходит, надо молить Бога, чтобы не покидал их, помог, иначе будет плохо… Из Большерецка нужно уйти раньше, чем сюда придут люди из Охотска.
Вытащив из-за пояса заряженные пистолеты, Беневский пристроил их на самодельной тумбочке, придвинутой к кровати, задул чадящий фитиль коптюшки. Коптюшка была заправлена старым рыбьим жиром и припахивала странной горькой тухлятиной.
Жир, заготовленный осенью, во время нерестового хода кижуча, уже кончился – все запасы съели бунтовские собрания, затягивающиеся до середины ночи.
– Ну что ж, правильно говорят русские: утро вечера мудренее, – пробормотал Беневский, смыкая веки, – подождем, что нам принесет утро.
Через два дня команда Хрущева, прорубавшая канал, работу закончила.
Беневский, обычно невозмутимый, спокойный, не удержался и с веселым школярским гиканьем подбросил вверх треуголку.
– Мы победили! – прокричал он что было мочи, поймал треуголку и снова подбросил ее – вел себя он, как гимназист, перешедший в очередной класс. – Слава тебе, Господи!
Отплытие было назначено на двенадцатое мая. Двенадцатое мая! Беневский удивленно почесал голову – еще вчера отмечали Рождество и Новый год, за стенкой дома свистели кудрявые синие метели, мороз раскалывал пополам камни, а сегодня уже – май, двенадцатое число! Как быстро идет время! Правда, двенадцатое число еще не наступило, но очень скоро наступит.
Хочу повториться и подчеркнуть, что количество тех, кто отплывал двенадцатого мая в неведомое, до сих пор называют разное. Беневский в своих «Путешествиях и воспоминаниях» привел, например, две цифры: 109 и 99, причем, у тех, кто изучал его «Путешествия» с лупой в руке, невольно возникало впечатление, что он путал цифры, блефовал, как в картах, Рюмин и Судейкин называли другое число – семьдесят.
Алеша Устюжанинов в своих записях приводит еще одну цифру – 96. И дает следующий расклад:
«Ссыльных – 8,
Охотников и рабочих – 32,
Матросов с «Петра» и «Екатерины» – 39,
Остальных – 17».
Я все-таки склонен больше верить Устюжанинову: он еще не успел обучиться «ловкости рук» и «невидимым маневрам», житейскому вранью, а значит, не научился обманывать… С другой стороны, подсчет тех, кто плыл на «Святом Петре», можно было производить в разное время – и перед отплытием, и в середине пути, и на островах, где бунтовщики осели на постоянное житье. Везде эта цифра была разной.
Подсчитал Устюжанинов и количество шкур, которые беглецы везли с собой – этим мехом можно было одеть половину Парижа. Впрочем, тогда Алеша еще не знал, что на свете есть такой город.
«Соболей – 1900,
Бобров – 748,