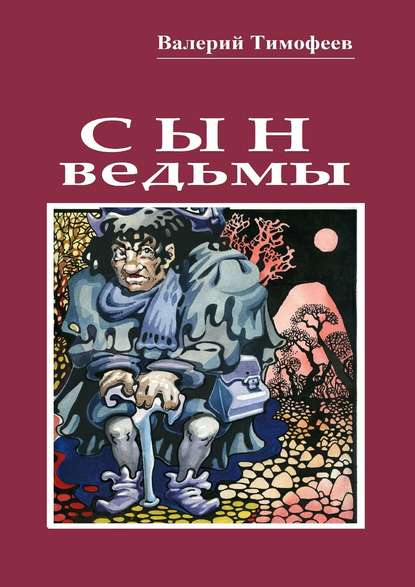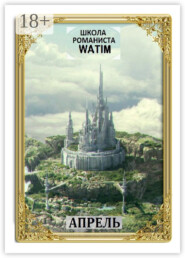По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сын ведьмы. Волшебная сказка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кто бы мог мне такую подлость учинить? – в сотый раз вопрос себе задала и, как ей показалось, догадалась.
– Черти! – кличет, а те тут как тут, и ждать их три года не пришлось.
– Чего изволите? – выстроились в ряд, преданно в глаза заглядывают.
– Вы со мной такую злую шутку сыграли? – брови нахмурила, руки в бока уперла.
– Какую? – застыли в недоумении лохматые. Они ж только задумали влюбленных наказать, а само наказание для них еще и не придумали, не до того рогатым было – подглядывали.
– Шкуру мою украли!
Будто дубинкой по голове им попало! Черти подпрыгивают, черти разводят руками, черти толкают друг друга.
– Вот что надо бы сделать!
– Эх, балбесы!
– До такого простого и не додумались!
И ну друг друга мутузить, нехорошими словами обзывать, умственные способности вслух пересчитывать.
Хоть и увертливы черти, и лживы, и запросто могут для показухи самые грозные баталии устроить, свои собственные хребты не щадить, но тут поверила им ведьма, – действительно, где им с их малым умишком до такого хитрого да подлого додуматься.
Стали они вчетвером шкуру искать, все больше и больше расширяя круг поисков. А потом чертям надоело, или другие дела у них объявились.
– Мы что, нанимались к тебе в помощники?
– Тебе надо, ты и ищи!
– У нас своих забот полон рот, – нашли отговорку и сбежали.
Солнце землю припекает, сил у ведьмы итак немного, последние забирает. Ищет Су Анасы по лесным закоулкам, плачет.
Вышла я из себя, не найти покоя,
Тело высохнет, силы уйдут.
Это мне за любовь наказанье такое,
Это я за любовь угодила в беду.
Наша встреча с тобой оказалась короткой,
Я вчера не могла и об этом мечтать!
Рядом ты, ну всего-то за тем поворотом,
Сделать шаг, полететь!
Не могу я летать.
И тут она увидела Батыра. И он ходит темнее тучи по лесным тропкам, любимую свою ищет. Только рот раскрыла – закричать, позвать, но вовремя опомнилась.
Нет страшнее мучения
– знать, что ты рядом,
Только руку к тебе протяни.
Счастье длится мгновенье,
– оно как награда,
У тоски – бесконечные дни.
И пошла ведьма куда глаза глядят. Искать украденную у нее шкуру и место свое на ставшей такой пустой и неуютной земле.
Глава 3 Карчик
На самой дальней окраине села через неглубокий овражек прокинут хлипенький мосток. Так себе мосток – три поваленных лесины тесовыми досками промеж собой скреплены и перильцами какими ни то обставлены, чтобы, значит, путнику не свалиться, даже вдруг он на нетвердом ходу или с тяжелой поклажей в путь собрался. Ну и телега с лошадкой, если не подгонять, прошмыгнет.
По мостку проходит как бы граница – с этой стороны еще село, живые люди с повседневными делами и заботами. А по ту сторону, почитай, что уже и лесные просторы зачинаются.
Слева от мостка, перед самой горой, в сосновом хороводе место для упокоения. Из года в год, из века в век под защитой столетних сосен находили свое последнее пристанище почившие селяне. А живые приходили помянуть, поклониться, и ответа мудрого на вопросы трудные поискать.
Справа от мостка, на проторенной дороге к бьющему из скалы ключику, скучает полуразрушенная кузница.
А посереди этого раздолья опушка…
На опушке две одиноких сосны богато так кроны раскинули и почти спрятали маленькую покосившуюся избушку. Избушка не просто маленькая, а еще и старенькая, по самые окна в землю вросла. Тесовая крыша толстым слоем изумрудно-зеленого мха покрылась, печная труба набок смотрит, входную дверь жердь подпирает, калитка об одной петле вечно нараспашку. А для чего ее запирать, когда остального забора ни вправо нет, ни влево не поставили? Вольготно – заходи, кто хочет, и выходи, ни у кого два раза не спросясь. На задворках козы сами себе пасутся, по огороду гуси да куры запросто гуляют, гогочут и кудахчут, дела свои обсуждая. На щедром солнышке пушистый котенок разлегся – серый бок греет.
Вроде и жалкое зрелище эта избушка, ан нет! Не нищетой и запустением здесь пахнет, а свободой и умиротворением.
Ввечеру, когда солнышко за гору спрячется, на небо месяц в окружении звезд выплывет, жуть и холод заполнят все пространство от кладбища до развалин кузницы. Ух, хоть я и не робкого десятка, но и у меня мороз по коже, окажись я в этот час на этом месте. Но… загорятся два низеньких окошка бледно-желтым светом. Холод, пустота и одиночество враз силу свою растеряют. От окон таким теплом и уютом повеет, что непременно зайти хочется, обогреться да слово доброе услышать.
Живет в этой древней избушке такая же древняя-предревняя бабушка Карчик. Лет ей столь много, что не отыщется в округе ни одного человека, который бы помнил ее молодой или хотя бы не старой. Доводилась она по годам бабушкой самой старой бабушке села. Только вот не слыхать, чтобы внуки у нее были, правнуки или какая другая родня. Одна-одинешенька на всем белом свете.
Была Карчик росточком невелика; ноги у нее колесом, спина сгорбленная, а кожа сморщенная, как кора на вековой лесине. Лицом худощава, безоговорочно владела вострым носом и двумя торчащими изо рта желтыми зубами. Но руки Карчик имела крепкие да цепкие, ум быстрый и светлый, а глаз до сей поры острый.
Знала она много всяких сказок и историй, знала наперечет всех жителей села – и тех, что еще здравствовали на земле, и тех, кто был да давно прахом стал и внизу под сосенками лежит. Про любого могла целую книгу жизни рассказать, если бы кто полюбопытствовал. Вряд ли найдется в этом селе хоть один человек, кого не первыми коснулись руки Карчик, ибо лучшей повитухи[3 - Женщина, принимающая ребенка во время рождения.] не знали в округе. Все роженицы заранее обговаривали с родней и мужьями, чтобы их в нужную минуту везли именно к Карчик. Или любыми посулами звали старуху в дом.
А еще умела она врачевать как тела людские, так и души человеческие.
Что-то вроде знахарки.
С ранней весны, когда первая травинка из-под снега вытает, и до первого снега, когда последняя ягодка на морозе окаменеет, бродит Карчик по лесам и болотам, все что-то собирает, вынюхивает, выискивает, и в суму свою бездонную, через плечо перекинутую, прячет-укладывает.
В избушке у нее по стенам и с потолка свисает бессчетное число пучков сушеных трав и кореньев, грибов и ягод. На полках стояли сотни пузырьков и баночек с мазями, настоями и отварами. В иных закупоренных банках плавали лягушки, ящерки и даже пауки. Вот печень кабана, здесь волчий язык и медвежье ухо. А рядом совсем непотребное – пучеглазые головы ядовитых змей. На стене козьи рога с черепом, медвежья голова и волчья пасть без трех передних зубов. Больно уж хорошая добавка в снадобье – толченые волчьи зубы. И не пойми – рыбья или змеиная шкура, серебристо-блескучая, с раздвоенным хвостом, косматой головой и выпученными глазами, да такая огромная, что и человеку в нее завернуться от макушки до ног в самую пору будет.
Вот из-за этой самой шкуры больше всего тени падало на хозяйку избушки. Поговаривали люди, что Карчик не просто знает всякие лечебные травы, грибы и коренья. А она и с нечистой силой шуры-муры водит.
Сейчас уже и не упомнят, кто эту байку первым рассказывал, только как-то в полнолуние видели, как старуха колдует над девушкой. Накинула на себя рыбью шкуру, жжет в избушке своей, прямо на земляном полу, большой костер. Космы седые растрепаны, глаза безумны; кидает в огонь сушеные вершки и корешки, чьи-то волосы и лоскутки одежды. Пляшет дикие танцы, стучит в бубен и кричит нечеловеческим голосом слова неизвестно кому:
Тик сиэннен аны![4 - Возьми ее боль (тат).]
Нет здесь ЕЕ вины,
Насыплю на рану соль,
Только возьми ее боль.
Хочешь, в придачу возьми
Стужу прошедшей зимы,
Дым прогоревшей печи,
Солнечный свет в ночи.
Мало? Я дам не скупясь
– Черти! – кличет, а те тут как тут, и ждать их три года не пришлось.
– Чего изволите? – выстроились в ряд, преданно в глаза заглядывают.
– Вы со мной такую злую шутку сыграли? – брови нахмурила, руки в бока уперла.
– Какую? – застыли в недоумении лохматые. Они ж только задумали влюбленных наказать, а само наказание для них еще и не придумали, не до того рогатым было – подглядывали.
– Шкуру мою украли!
Будто дубинкой по голове им попало! Черти подпрыгивают, черти разводят руками, черти толкают друг друга.
– Вот что надо бы сделать!
– Эх, балбесы!
– До такого простого и не додумались!
И ну друг друга мутузить, нехорошими словами обзывать, умственные способности вслух пересчитывать.
Хоть и увертливы черти, и лживы, и запросто могут для показухи самые грозные баталии устроить, свои собственные хребты не щадить, но тут поверила им ведьма, – действительно, где им с их малым умишком до такого хитрого да подлого додуматься.
Стали они вчетвером шкуру искать, все больше и больше расширяя круг поисков. А потом чертям надоело, или другие дела у них объявились.
– Мы что, нанимались к тебе в помощники?
– Тебе надо, ты и ищи!
– У нас своих забот полон рот, – нашли отговорку и сбежали.
Солнце землю припекает, сил у ведьмы итак немного, последние забирает. Ищет Су Анасы по лесным закоулкам, плачет.
Вышла я из себя, не найти покоя,
Тело высохнет, силы уйдут.
Это мне за любовь наказанье такое,
Это я за любовь угодила в беду.
Наша встреча с тобой оказалась короткой,
Я вчера не могла и об этом мечтать!
Рядом ты, ну всего-то за тем поворотом,
Сделать шаг, полететь!
Не могу я летать.
И тут она увидела Батыра. И он ходит темнее тучи по лесным тропкам, любимую свою ищет. Только рот раскрыла – закричать, позвать, но вовремя опомнилась.
Нет страшнее мучения
– знать, что ты рядом,
Только руку к тебе протяни.
Счастье длится мгновенье,
– оно как награда,
У тоски – бесконечные дни.
И пошла ведьма куда глаза глядят. Искать украденную у нее шкуру и место свое на ставшей такой пустой и неуютной земле.
Глава 3 Карчик
На самой дальней окраине села через неглубокий овражек прокинут хлипенький мосток. Так себе мосток – три поваленных лесины тесовыми досками промеж собой скреплены и перильцами какими ни то обставлены, чтобы, значит, путнику не свалиться, даже вдруг он на нетвердом ходу или с тяжелой поклажей в путь собрался. Ну и телега с лошадкой, если не подгонять, прошмыгнет.
По мостку проходит как бы граница – с этой стороны еще село, живые люди с повседневными делами и заботами. А по ту сторону, почитай, что уже и лесные просторы зачинаются.
Слева от мостка, перед самой горой, в сосновом хороводе место для упокоения. Из года в год, из века в век под защитой столетних сосен находили свое последнее пристанище почившие селяне. А живые приходили помянуть, поклониться, и ответа мудрого на вопросы трудные поискать.
Справа от мостка, на проторенной дороге к бьющему из скалы ключику, скучает полуразрушенная кузница.
А посереди этого раздолья опушка…
На опушке две одиноких сосны богато так кроны раскинули и почти спрятали маленькую покосившуюся избушку. Избушка не просто маленькая, а еще и старенькая, по самые окна в землю вросла. Тесовая крыша толстым слоем изумрудно-зеленого мха покрылась, печная труба набок смотрит, входную дверь жердь подпирает, калитка об одной петле вечно нараспашку. А для чего ее запирать, когда остального забора ни вправо нет, ни влево не поставили? Вольготно – заходи, кто хочет, и выходи, ни у кого два раза не спросясь. На задворках козы сами себе пасутся, по огороду гуси да куры запросто гуляют, гогочут и кудахчут, дела свои обсуждая. На щедром солнышке пушистый котенок разлегся – серый бок греет.
Вроде и жалкое зрелище эта избушка, ан нет! Не нищетой и запустением здесь пахнет, а свободой и умиротворением.
Ввечеру, когда солнышко за гору спрячется, на небо месяц в окружении звезд выплывет, жуть и холод заполнят все пространство от кладбища до развалин кузницы. Ух, хоть я и не робкого десятка, но и у меня мороз по коже, окажись я в этот час на этом месте. Но… загорятся два низеньких окошка бледно-желтым светом. Холод, пустота и одиночество враз силу свою растеряют. От окон таким теплом и уютом повеет, что непременно зайти хочется, обогреться да слово доброе услышать.
Живет в этой древней избушке такая же древняя-предревняя бабушка Карчик. Лет ей столь много, что не отыщется в округе ни одного человека, который бы помнил ее молодой или хотя бы не старой. Доводилась она по годам бабушкой самой старой бабушке села. Только вот не слыхать, чтобы внуки у нее были, правнуки или какая другая родня. Одна-одинешенька на всем белом свете.
Была Карчик росточком невелика; ноги у нее колесом, спина сгорбленная, а кожа сморщенная, как кора на вековой лесине. Лицом худощава, безоговорочно владела вострым носом и двумя торчащими изо рта желтыми зубами. Но руки Карчик имела крепкие да цепкие, ум быстрый и светлый, а глаз до сей поры острый.
Знала она много всяких сказок и историй, знала наперечет всех жителей села – и тех, что еще здравствовали на земле, и тех, кто был да давно прахом стал и внизу под сосенками лежит. Про любого могла целую книгу жизни рассказать, если бы кто полюбопытствовал. Вряд ли найдется в этом селе хоть один человек, кого не первыми коснулись руки Карчик, ибо лучшей повитухи[3 - Женщина, принимающая ребенка во время рождения.] не знали в округе. Все роженицы заранее обговаривали с родней и мужьями, чтобы их в нужную минуту везли именно к Карчик. Или любыми посулами звали старуху в дом.
А еще умела она врачевать как тела людские, так и души человеческие.
Что-то вроде знахарки.
С ранней весны, когда первая травинка из-под снега вытает, и до первого снега, когда последняя ягодка на морозе окаменеет, бродит Карчик по лесам и болотам, все что-то собирает, вынюхивает, выискивает, и в суму свою бездонную, через плечо перекинутую, прячет-укладывает.
В избушке у нее по стенам и с потолка свисает бессчетное число пучков сушеных трав и кореньев, грибов и ягод. На полках стояли сотни пузырьков и баночек с мазями, настоями и отварами. В иных закупоренных банках плавали лягушки, ящерки и даже пауки. Вот печень кабана, здесь волчий язык и медвежье ухо. А рядом совсем непотребное – пучеглазые головы ядовитых змей. На стене козьи рога с черепом, медвежья голова и волчья пасть без трех передних зубов. Больно уж хорошая добавка в снадобье – толченые волчьи зубы. И не пойми – рыбья или змеиная шкура, серебристо-блескучая, с раздвоенным хвостом, косматой головой и выпученными глазами, да такая огромная, что и человеку в нее завернуться от макушки до ног в самую пору будет.
Вот из-за этой самой шкуры больше всего тени падало на хозяйку избушки. Поговаривали люди, что Карчик не просто знает всякие лечебные травы, грибы и коренья. А она и с нечистой силой шуры-муры водит.
Сейчас уже и не упомнят, кто эту байку первым рассказывал, только как-то в полнолуние видели, как старуха колдует над девушкой. Накинула на себя рыбью шкуру, жжет в избушке своей, прямо на земляном полу, большой костер. Космы седые растрепаны, глаза безумны; кидает в огонь сушеные вершки и корешки, чьи-то волосы и лоскутки одежды. Пляшет дикие танцы, стучит в бубен и кричит нечеловеческим голосом слова неизвестно кому:
Тик сиэннен аны![4 - Возьми ее боль (тат).]
Нет здесь ЕЕ вины,
Насыплю на рану соль,
Только возьми ее боль.
Хочешь, в придачу возьми
Стужу прошедшей зимы,
Дым прогоревшей печи,
Солнечный свет в ночи.
Мало? Я дам не скупясь