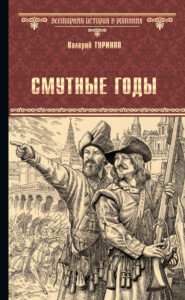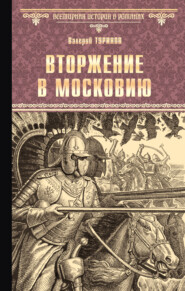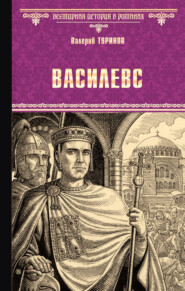По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На краю государевой земли
Серия
Год написания книги
2009
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но Борятинский не стал слушать его, цыкнул на него и приказал ехать. У воеводы был свой расчет. Он хотел быстрее выпроводить Кичея из волости, так как среди остяков началась шатость. И с ними проще было бы расправиться без него. К тому же его обозлил этот заносчивый стрелецкий пятидесятник. И он решил наказать обоих. Чтобы и на будущее было неповадно Треньке перечить воеводе, он отправил его в конце зимы. Пускай по ненастному весеннему пути помается, поубавит силёнки и прыти.
Из Сургута Тренька выехал вне себя от злости, и в первую очередь на старого Кичея. Понесло же того на Москву именно сейчас, в самую неподходящую пору. И хотя взбесил Треньку воевода, однако испытать его лютость пришлось Кичею. Тренька понимал, что на воеводу злись не злись, от этого ничего не изменится. Это все равно, что кусать воздух: «Гам, гам, гам!»… Все остается по-прежнему. Убытку воеводе никакого от его, Тренькиной, злобы. И он отыгрался на старом Кичее. Благо, дорога до Москвы была долгая и для них тесная.
Для начала, когда они покинули Сургутский острожёк и поехали по Оби длинным караваном собачьих упряжек, Тренька отобрал у старика хороших ездовых собак и выдал ему самых захудалых. На них Кичею пришлось все время кричать до одури и бежать рядом с нартами, чтобы не отстать от других. И он терпел и бежал, терпел тяжесть пути и ожесточение пятидесятника. О том, как несладко Кичею, выдавали его темные запавшие глаза и костлявое потное лицо. А на стоянках тот подолгу сидел, покачиваясь, у костра, глядел на огонь и думал, как похожа душа у русского пятидесятника на этого красного зверька: когда горит, то больше жжет, чем греет…
Остяки, ведущие ямскую гоньбу, заметили эту обозленность Треньки на Кичея и стали помогать старику в дороге. Они быстро определили самую сильную и выносливую упряжку, из числа доставшихся им, и подсунули ее Кичею. Незаметно оставляли они старику и корм. Его Тренька раздавал всем подневно на стоянках, стараясь и в этом обделить Кичея. Все стойко сносил Кичей. И этим еще больше бесил Треньку.
Скоро это заметили и служилые, с которыми Тренька отправился из Сургута. Почувствовали они и затаенную враждебность остяков.
Через неделю, на подъезде к устью Иртыша, Юшка Вахрамеев заявил Дееву: «Тренька, ты брось эти штучки со стариком».
– А тебе-то что! – вспылил Тренька. – Не суй нос, куда собака!.. – отбрил он казака.
– Мне-то и есть что! Жить хочу! Глянь – остяки волками зыркают! Пришьют ночью, как щенят! Пропадать с тобой, дураком, не хочется! К Таирову месту подходим! Среди них первого изменщика!
От этой наглости казака Тренька еще больше рассвирепел, наорал на Юшку, припугнул, что донесет про эти его речи воеводе в Тобольске. Однако после этой перепалки он одумался, перестал донимать старика и оставшийся до Тобольска путь заботился о нем, как того требовал царский наказ.
В Тобольске князца в съезжей избе встретил воевода Федор Иванович Шереметев. Встретил он его по чести, приветливо, справил как надо подорожную до Москвы. Выписал он и корм остякам и служилым, выдал еще отписки воеводам тех городов, через которые лежал путь Кичея. Всем наказал он держать его в сытости, не в нужде…
Много попетлял с воеводскими посылками Тренька по бескрайней Сибири и старой исконной Руси, прежде чем выбился в атаманы. Достигнув этого тяжкой службой, он уверовал, что только так и следует жить. Поэтому, когда он наставлял молодых стрельцов и казаков, то, бывало, порой бахвалился этим…
От Пущина гости расходились поздно. Десятники кое-как натянули шубу на захмелевшего атамана, подхватили его под руки и гурьбой вывалились из избы.
На дворе яростно залаяли собаки, почуя чужих.
– Васятка! – крикнул сотник, выйдя провожать гостей.
– Что?! – высунулся малец в дверь избы.
– Оденься и проследи, чтоб атаман дошел до дома. Как бы в снегу, спьяну, не замерз. Вишь, холод-то какой, – дохнул Пущин морозным парком. – Собирайся, собирайся, да поживей! Ну что стал! – прикрикнул он на мальца, видя, что тому не хочется бежать куда-то ночью и он тянет время.
– Сейчас, дядя Иван, шубейку накину! – крикнул Васятка.
Стояла тихая темная ночь. Ярко блестели звезды, и был поразительно прозрачным воздух. Такие ночи бывают разве что на севере, на исходе зимы, когда долгая зимняя стужа вымораживает в воздухе влагу, и на короткое время как бы приоткрывается во вселенную незамутненное окошко.
Пущин равнодушно глянул пьяными глазами на это мерцающее изумрудами звездное небо и быстро заскочил в душную теплую избу, пропахшую резким мускусным запахом от кучно живущих людей.
* * *
Весна пришла ранняя, бурная. Уже на Аринин день зажурчали ручьи. Размяк и просел снег. На речушках и болотцах появились проталины. В ложбинках, тут и там, заблестела снежница. На Сургутке, крохотной и тихой протоке, соединявшейся с Обью как раз около острога, уже проступили забереги. И тайга, оттаивая, затопила зажорной водой[27 - Зажорная вода (зажера) – вода, скапливающаяся под снегом в ямках и рытвинах, на дороге при таянии снега.] прачечные и водопойные проруби.
По ночам же талый снег прихватывало морозом, и зернистый наст стал драть камасы[28 - Камасы – сапоги из оленьей или лосиной шкуры.], сапоги и ноги собакам. И в острожёк с весеннего промысла, на соболя и белку, потянулись охотники, спеша успеть до половодья.
За два дня до Егория прилетели мартышки и плиски, а за ними утки.
«Нынче река вскроется», – подумал Пущин, прислушиваясь к скрипучим голосам чаек, которые, точно обезумев, заметались над рекой.
К вечеру небо заволокло низкими облаками, упал туман и сразу потеплело. А когда на острожёк опустилась темнота, на реке что-то гулко забухало и затрещало, заставляя жителей с беспокойством вздрагивать.
Прибылая талая вода вспучила лед и ночью вскрыла реку.
Наутро все, кто мог ходить, высыпали на берег Оби.
По реке, во всю ее ширь, сплошным белым потоком шел лед. Над ним, противно крича, носились чайки. Они были всюду: мельтешили в воздухе, сноровисто бегали по льдинам. Жадно выхватывая из воды ошметки нечистот и рыбы, они дрались между собой, рвали их на куски, нахально оттесняли тут же копошащихся уток.
Дарья стояла с Иваном на берегу и блаженно улыбалась, зажмурившись от яркого солнца. Подставив лицо слабому ветерку, она прислушивалась к доносившемуся с реки едва различимому шороху трущихся друг о друга льдин. Река дышала холодом, а от земли исходил какой-то сладостный дух, вызывая во всем теле приятную истому. И от этого ей ничего не хотелось, только вот так стоять бы и стоять.
– Скоро собираться, – сказал Иван, взглянул на бледное лицо жены и невольно заметил, что она странно помолодела. Разгладились и куда-то исчезли морщинки, так поразившие его, когда он вернулся из Москвы. Их раньше он как-то и не замечал у нее. А вот, поди ты, с чего-то уже посекли ее лицо…
Дарья машинально кивнула головой, занятая совсем иными мыслями и чувствами. Прошедшая зима оказалась для нее тяжкой. К концу холодов она стала совсем немощной. Ее часто пошатывало, без причины кружилась голова, и куда-то в темноту порой соскальзывало сознание. Вот и сейчас, чтобы ненароком не упасть, она ухватилась за рукав мужа. А около нее, в свою очередь уцепившись за ее подол, стояла Любаша, тоже бледная, с синевой под глазами…
С реки Пущины уходили не спеша, когда на берегу все еще было полно народа.
«Будет где потолкаться», – мелькнуло у Ивана о Маше; они оставили ее с Варькой, пообещав, что ее сменит у люльки Любаша и она еще успеет поглазеть со всеми на ледоход.
Они подошли к своей избе и остановились.
– Эх-х! Прикипели мы тут! – вырвалось у Ивана, с затаенным сожалением в голосе. – Привычно… В Томске-то неведомо как будет. Однако место угожее, вольготное.
– Может, на пашенку заведемся, а? – нерешительно спросила Дарья его.
– А почему нет?! – с задором сказал он, притянул ее к себе и обнял.
Дарья недоверчиво посмотрела на него. Что-то с ним случилось сегодня, каким-то выглядит другим. Еще недавно не захотел бы и слышать ни о какой пашне. Все на службе, да на посылках. Государю прямит честью. А теперь повернул вон как. Надолго ли?.. Вот пройдет весна, и опять станет прежним. С охоткой пустится в какой-нибудь дальний край по воеводскому наказу. Не-ет, она знает его. Не сможет он копаться в земле, сидеть около своего двора. Улетит, как только выветрится хмельной весенний дух. Ну, да она и не рассчитывает на него. Пускай живет, как душа велит. Вот, может, Феденька выйдет иным. Если в нее, то не плохо бы, в старости будет опора…
Неторопливые мысли Дарьи прервал Герасим.
– Здорово, Иван! – громко бросил тот, подходя к Пущиным. – Здравствуй, Дарья!
Иван пожал липкую руку долговязого десятника.
У Герасима было узкое, длинное, похожее на бердыш, лицо. При ходьбе он как-то странно подпрыгивал и относился к той породе людей, которым любая пустяковая работа была в тягость. Он пыхтел и мучился оттого, что тот же Пущин исполнял играючи. Вот и сейчас по его распаренному лицу было заметно, что он спешил к нему с чем-то важным, значительным.
– Дело есть, Волынский зовет.
– Почему спешно? – спросил Иван.
В десятники из рядовых стрельцов Герасима вывел он: вовремя намекнул как-то воеводе, по смерти Никиты Силантьева, об упалом месте, в которое сын того пока не вышел по малолетству. Поэтому Герасим ходил у него в сотне. Но только не все было между ними ладно: оттого, что к стрельцам он был суров, требователен. А это многим было не по нраву. Не нравилось и Герасиму, хотя тот и не подавал виду.
– Отписку Федор Васильевич получил с Нарыма. И дюже стал хмурым.
– Из Нарыма, говоришь? – неопределенно протянул Пущин, соображая, что там может быть такое, из-за чего сразу зовут его. – Ладно, сейчас буду. Дарья, иди домой. Я к воеводе. И приготовь что-нибудь поесть. Да посытней бы, мясного. Меня по весне всегда шатает, как пьяного.
«Вот так оно и есть. Уже полетел», – разочарованно подумала Дарья и, слегка покачивая широкими бедрами, поднялась на крыльцо вместе с Любашей и скрылась в избе.
Пущин вздохнул, почувствовав, что жена опять недовольна чем-то, и повернулся к Герасиму.
– Ну, пошли, что ли?
Из Сургута Тренька выехал вне себя от злости, и в первую очередь на старого Кичея. Понесло же того на Москву именно сейчас, в самую неподходящую пору. И хотя взбесил Треньку воевода, однако испытать его лютость пришлось Кичею. Тренька понимал, что на воеводу злись не злись, от этого ничего не изменится. Это все равно, что кусать воздух: «Гам, гам, гам!»… Все остается по-прежнему. Убытку воеводе никакого от его, Тренькиной, злобы. И он отыгрался на старом Кичее. Благо, дорога до Москвы была долгая и для них тесная.
Для начала, когда они покинули Сургутский острожёк и поехали по Оби длинным караваном собачьих упряжек, Тренька отобрал у старика хороших ездовых собак и выдал ему самых захудалых. На них Кичею пришлось все время кричать до одури и бежать рядом с нартами, чтобы не отстать от других. И он терпел и бежал, терпел тяжесть пути и ожесточение пятидесятника. О том, как несладко Кичею, выдавали его темные запавшие глаза и костлявое потное лицо. А на стоянках тот подолгу сидел, покачиваясь, у костра, глядел на огонь и думал, как похожа душа у русского пятидесятника на этого красного зверька: когда горит, то больше жжет, чем греет…
Остяки, ведущие ямскую гоньбу, заметили эту обозленность Треньки на Кичея и стали помогать старику в дороге. Они быстро определили самую сильную и выносливую упряжку, из числа доставшихся им, и подсунули ее Кичею. Незаметно оставляли они старику и корм. Его Тренька раздавал всем подневно на стоянках, стараясь и в этом обделить Кичея. Все стойко сносил Кичей. И этим еще больше бесил Треньку.
Скоро это заметили и служилые, с которыми Тренька отправился из Сургута. Почувствовали они и затаенную враждебность остяков.
Через неделю, на подъезде к устью Иртыша, Юшка Вахрамеев заявил Дееву: «Тренька, ты брось эти штучки со стариком».
– А тебе-то что! – вспылил Тренька. – Не суй нос, куда собака!.. – отбрил он казака.
– Мне-то и есть что! Жить хочу! Глянь – остяки волками зыркают! Пришьют ночью, как щенят! Пропадать с тобой, дураком, не хочется! К Таирову месту подходим! Среди них первого изменщика!
От этой наглости казака Тренька еще больше рассвирепел, наорал на Юшку, припугнул, что донесет про эти его речи воеводе в Тобольске. Однако после этой перепалки он одумался, перестал донимать старика и оставшийся до Тобольска путь заботился о нем, как того требовал царский наказ.
В Тобольске князца в съезжей избе встретил воевода Федор Иванович Шереметев. Встретил он его по чести, приветливо, справил как надо подорожную до Москвы. Выписал он и корм остякам и служилым, выдал еще отписки воеводам тех городов, через которые лежал путь Кичея. Всем наказал он держать его в сытости, не в нужде…
Много попетлял с воеводскими посылками Тренька по бескрайней Сибири и старой исконной Руси, прежде чем выбился в атаманы. Достигнув этого тяжкой службой, он уверовал, что только так и следует жить. Поэтому, когда он наставлял молодых стрельцов и казаков, то, бывало, порой бахвалился этим…
От Пущина гости расходились поздно. Десятники кое-как натянули шубу на захмелевшего атамана, подхватили его под руки и гурьбой вывалились из избы.
На дворе яростно залаяли собаки, почуя чужих.
– Васятка! – крикнул сотник, выйдя провожать гостей.
– Что?! – высунулся малец в дверь избы.
– Оденься и проследи, чтоб атаман дошел до дома. Как бы в снегу, спьяну, не замерз. Вишь, холод-то какой, – дохнул Пущин морозным парком. – Собирайся, собирайся, да поживей! Ну что стал! – прикрикнул он на мальца, видя, что тому не хочется бежать куда-то ночью и он тянет время.
– Сейчас, дядя Иван, шубейку накину! – крикнул Васятка.
Стояла тихая темная ночь. Ярко блестели звезды, и был поразительно прозрачным воздух. Такие ночи бывают разве что на севере, на исходе зимы, когда долгая зимняя стужа вымораживает в воздухе влагу, и на короткое время как бы приоткрывается во вселенную незамутненное окошко.
Пущин равнодушно глянул пьяными глазами на это мерцающее изумрудами звездное небо и быстро заскочил в душную теплую избу, пропахшую резким мускусным запахом от кучно живущих людей.
* * *
Весна пришла ранняя, бурная. Уже на Аринин день зажурчали ручьи. Размяк и просел снег. На речушках и болотцах появились проталины. В ложбинках, тут и там, заблестела снежница. На Сургутке, крохотной и тихой протоке, соединявшейся с Обью как раз около острога, уже проступили забереги. И тайга, оттаивая, затопила зажорной водой[27 - Зажорная вода (зажера) – вода, скапливающаяся под снегом в ямках и рытвинах, на дороге при таянии снега.] прачечные и водопойные проруби.
По ночам же талый снег прихватывало морозом, и зернистый наст стал драть камасы[28 - Камасы – сапоги из оленьей или лосиной шкуры.], сапоги и ноги собакам. И в острожёк с весеннего промысла, на соболя и белку, потянулись охотники, спеша успеть до половодья.
За два дня до Егория прилетели мартышки и плиски, а за ними утки.
«Нынче река вскроется», – подумал Пущин, прислушиваясь к скрипучим голосам чаек, которые, точно обезумев, заметались над рекой.
К вечеру небо заволокло низкими облаками, упал туман и сразу потеплело. А когда на острожёк опустилась темнота, на реке что-то гулко забухало и затрещало, заставляя жителей с беспокойством вздрагивать.
Прибылая талая вода вспучила лед и ночью вскрыла реку.
Наутро все, кто мог ходить, высыпали на берег Оби.
По реке, во всю ее ширь, сплошным белым потоком шел лед. Над ним, противно крича, носились чайки. Они были всюду: мельтешили в воздухе, сноровисто бегали по льдинам. Жадно выхватывая из воды ошметки нечистот и рыбы, они дрались между собой, рвали их на куски, нахально оттесняли тут же копошащихся уток.
Дарья стояла с Иваном на берегу и блаженно улыбалась, зажмурившись от яркого солнца. Подставив лицо слабому ветерку, она прислушивалась к доносившемуся с реки едва различимому шороху трущихся друг о друга льдин. Река дышала холодом, а от земли исходил какой-то сладостный дух, вызывая во всем теле приятную истому. И от этого ей ничего не хотелось, только вот так стоять бы и стоять.
– Скоро собираться, – сказал Иван, взглянул на бледное лицо жены и невольно заметил, что она странно помолодела. Разгладились и куда-то исчезли морщинки, так поразившие его, когда он вернулся из Москвы. Их раньше он как-то и не замечал у нее. А вот, поди ты, с чего-то уже посекли ее лицо…
Дарья машинально кивнула головой, занятая совсем иными мыслями и чувствами. Прошедшая зима оказалась для нее тяжкой. К концу холодов она стала совсем немощной. Ее часто пошатывало, без причины кружилась голова, и куда-то в темноту порой соскальзывало сознание. Вот и сейчас, чтобы ненароком не упасть, она ухватилась за рукав мужа. А около нее, в свою очередь уцепившись за ее подол, стояла Любаша, тоже бледная, с синевой под глазами…
С реки Пущины уходили не спеша, когда на берегу все еще было полно народа.
«Будет где потолкаться», – мелькнуло у Ивана о Маше; они оставили ее с Варькой, пообещав, что ее сменит у люльки Любаша и она еще успеет поглазеть со всеми на ледоход.
Они подошли к своей избе и остановились.
– Эх-х! Прикипели мы тут! – вырвалось у Ивана, с затаенным сожалением в голосе. – Привычно… В Томске-то неведомо как будет. Однако место угожее, вольготное.
– Может, на пашенку заведемся, а? – нерешительно спросила Дарья его.
– А почему нет?! – с задором сказал он, притянул ее к себе и обнял.
Дарья недоверчиво посмотрела на него. Что-то с ним случилось сегодня, каким-то выглядит другим. Еще недавно не захотел бы и слышать ни о какой пашне. Все на службе, да на посылках. Государю прямит честью. А теперь повернул вон как. Надолго ли?.. Вот пройдет весна, и опять станет прежним. С охоткой пустится в какой-нибудь дальний край по воеводскому наказу. Не-ет, она знает его. Не сможет он копаться в земле, сидеть около своего двора. Улетит, как только выветрится хмельной весенний дух. Ну, да она и не рассчитывает на него. Пускай живет, как душа велит. Вот, может, Феденька выйдет иным. Если в нее, то не плохо бы, в старости будет опора…
Неторопливые мысли Дарьи прервал Герасим.
– Здорово, Иван! – громко бросил тот, подходя к Пущиным. – Здравствуй, Дарья!
Иван пожал липкую руку долговязого десятника.
У Герасима было узкое, длинное, похожее на бердыш, лицо. При ходьбе он как-то странно подпрыгивал и относился к той породе людей, которым любая пустяковая работа была в тягость. Он пыхтел и мучился оттого, что тот же Пущин исполнял играючи. Вот и сейчас по его распаренному лицу было заметно, что он спешил к нему с чем-то важным, значительным.
– Дело есть, Волынский зовет.
– Почему спешно? – спросил Иван.
В десятники из рядовых стрельцов Герасима вывел он: вовремя намекнул как-то воеводе, по смерти Никиты Силантьева, об упалом месте, в которое сын того пока не вышел по малолетству. Поэтому Герасим ходил у него в сотне. Но только не все было между ними ладно: оттого, что к стрельцам он был суров, требователен. А это многим было не по нраву. Не нравилось и Герасиму, хотя тот и не подавал виду.
– Отписку Федор Васильевич получил с Нарыма. И дюже стал хмурым.
– Из Нарыма, говоришь? – неопределенно протянул Пущин, соображая, что там может быть такое, из-за чего сразу зовут его. – Ладно, сейчас буду. Дарья, иди домой. Я к воеводе. И приготовь что-нибудь поесть. Да посытней бы, мясного. Меня по весне всегда шатает, как пьяного.
«Вот так оно и есть. Уже полетел», – разочарованно подумала Дарья и, слегка покачивая широкими бедрами, поднялась на крыльцо вместе с Любашей и скрылась в избе.
Пущин вздохнул, почувствовав, что жена опять недовольна чем-то, и повернулся к Герасиму.
– Ну, пошли, что ли?