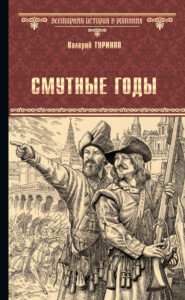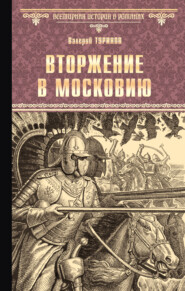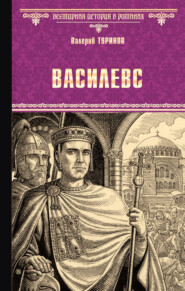По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Преодоление
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет! – сказал Трубецкой. – Зачем тогда мы терпели нужду? Стоим тут уже второй год! Пора и порядку в государстве быть!
Но это прозвучало у него с сомнением в голосе.
– А ты что, считаешь, как порядок установится, так ты будешь в думе, что ли! Ха-ха-ха! – засмеялся Шаховской. – Мстиславский не даст тебе того! Он что сейчас там! – махнул он рукой в сторону Кремля. – С поляками в думе, что потом – без поляков, тоже будет в думе!
* * *
В сентябре вести об этих событиях, происшедших под Москвой, дошли и до Михайлова, до Заруцкого: от его лазутчиков, доброхотов, оставшихся там, чтобы так служить ему.
Казак, принесший ему вести, после того как его накормили и угостили водкой, стал рассказывать новости, что произошли там.
– И августа в двадцатый день пришёл под Москву князь Пожарский. С войском, из Ярославля… Люди-то у него все сытые. Не то что мы-то! – с обидой в голосе говорил он…
Заметив, как нахмурился Заруцкий, он заторопился, выкладывая новости: «А через два дня Ходкевич подошёл. Сперва-то он наткнулся на земцев, на князя Пожарского, с Кузьмой каким-то! А земцы-то, боярские дети, воюют плохо: чуть-чуть и пропустили бы его в Кремль. Да и то верно: сытому-то умирать не хочется»…
– Голодному тоже, – проворчал Бурба.
– Не скажи! – возразил казак ему. – Голодному-то терять нечего. Так вот, мы только и помогли им: казаки Трубецкого! – стал рассказывать он дальше. – Ходкевича-то побили здорово! Он и пошёл от Москвы.
Бурба уже вынес свой приговор ополченцам Пожарского, вспомнив того боярского сына, беспомощного, который оказался не в силах защитить дочь Годунова от казаков-баловней, насильников, таких, которые сейчас окружали его. И с которыми, по воле свыше, сейчас он находился в одной упряжке. Он, в прошлом крестьянин, живший своим трудом, не любил ни тех, ни других.
Заруцкий, выслушав казака, в этот же день принял решение немедля идти на Рязань. Надо было спешить, пока здесь ещё не все были в курсе новостей под Москвой.
«Почувствуют силу новой власти, земцев, тогда уже не подчинить!» – знал он по опыту.
К Рязани его полки вышли через две недели, как раз на бабье лето, на день Михаила[17 - 6 (19) сентября – чудо Архистратига Михаила.]. Лист пожелтел, но по ночам ещё было тепло. Они подошли к городу, остановились вдали. И сразу же, словно приветствуя их, полыхнули пушки с Ввозной башни. А вот заухало, казалось, всё вокруг. Над стеной клубами поднялся дым, и там, в просветах, замелькали шишаки и панцири.
Казаки спешились и пошли на ворота, прикрываясь за огромными деревянными щитам. Катили их, катили… Вот вдребезги разбит один из них ядром. И по казакам со стен ударили пищали и мушкеты. И стрелы, стрелы оттуда же свистят… И не выдержали казаки, охотники до быстрой драки. Вон там один дал тыл, за ним ещё с десяток трясут уже портами…
– Ах, собаки! Куда-а?! – заорал Заруцкий на казаков Ворзиги, которые побежали первыми.
Ещё можно было остановить их, повернуть. И всё начать сначала, пойти на приступ.
Но тут он увидел, что поднимается решетка [18 - Решетка – защитное устройство в воротах крепости, сделанное из толстых брусьев в виде громадной решетки, поднимаемой и опускаемой на цепях.]в воротах, а за ней маячат маленькие фигурки, их было много, на конях…
«Боярские дети! – мелькнуло у него. – Сейчас пойдут в атаку!»
И они смешают его пеших казаков.
Да, так и есть – пошли конные, с саблями. За ними высыпали из ворот стрельцы и, зарядив ружья, ударили вслед казакам: по спинам, шапкам, по ногам… Казаки падают, бегут… Побежали и сотни боярских детей, что ушли с ним от Трубецкого.
Заруцкий был вне себя от ярости. Теперь уже ничего не оставалось, как только уйти от стен Рязани. Когда он вернулся в Михайлов, то его встретили ещё одной неприятной новостью: сбежали все дьяки. И первым заводилой из них оказался Евдокимов Петька, тихоня.
Глава 5
Последнее сражение
За день до Иверской иконы Божьей Матери [19 - 13 (26) октября – праздник Иверской иконы Божией Матери.]на Якова Тухачевского свалилось дело. И дело важное. Его со смоленскими служилыми Пожарский приставил сопровождать Гришку Уварова на встречу с поляками, что сидели в Кремле. Это была уже вторая встреча. На них, на ополчение Пожарского, с предложением начать переговоры, вышел ротмистр из полка Будилы. Яков знал его ещё по прошлому, когда попал с Валуевым в войско Жолкевского. Там он случайно и познакомился с тем ротмистром, знал только его имя, Андрей. Парень тот оказался толковым, к тому же умным. Яков, уже по привычке, выпил с ним пару стопок водки. С этого и началось их знакомство. Дружбой не назовешь, враждовать вроде бы тоже не с чего было. Вот разве что по старой памяти не давала покоя Матрёна. Она что-то стала часто появляться во сне, уговаривала не верить полякам… Он слушал её, но у него всё выходило наоборот…
Яков с Михалкой Бестужевым и ещё с десятком смоленских подъехали по Тверской улице к мосту через Неглинку и спешились. Там, за Неглинкой, у китайгородской стены, никого не было.
День был безоблачным. Было ещё тепло, совсем как в мае. И от этого невольно накатывало блаженное состояние.
– Ты что улыбаешься-то? – толкнул его в бок Михалка. – Как дурачок перед манной кашей! Ха-ха!
Яков, шутя, дал ему подзатыльник. Так он иногда останавливал его брата, Ваську, когда тот, бывало, расходился, начинал зло подшучивать над ним.
Михалка дал ему сдачу. Началась потасовка. Они потолкались, потолкались и успокоились. Надо было соблюдать сдержанность, поскольку они были приставлены к немалому делу.
В это время с польской стороны, из-за китайгородской стены, в ворота вышли четыре человека.
Двух гусар, из этих, Яков уже знал. Они приходили на переговоры вчера. Третий был новеньким. А вот четвёртого он не спутал бы ни с кем. Это был Будило, Оська, полковник.
И те, с польской стороны, подошли к Уварову и Ивану Бутурлину. Последнего Пожарский отрядил заложником, в обмен на Оську. Так они, Пожарский и Струсь, собирались обменяться заложниками на время переговоров.
Гусары и Будило, отойдя в сторону с Уваровым и Бутурлиным, стали о чём-то говорить.
Оттуда, где стояли Яков и Михалка, ничего не было слышно. Но по выразительным жестам Уварова, а тот всегда жестикулировал, когда волновался, Яков догадался, что там идёт какой-то торг.
Переговоры затянулись. Видимо, поляки не хотели с чем-то соглашаться. Уваров же настаивал на том, на чём ему велел стоять Пожарский: поляки должны были немедленно освободить всех, кого они держали в Кремле заложниками. Затем сдаться сами. За это Пожарский гарантировал им жизнь. На большее он не соглашался.
Яков с Михалкой, видя, что до них никому нет дела, от скуки стали травить небылицы, отвлеклись от происходящего. И сразу вздрогнули, когда послышались частые ружейные выстрелы с другой стороны китайгородской стены. Откуда-то со стороны Яузы.
– Что, что там?! – заволновались они, переглядываясь с Уваровым.
Гусары тоже забеспокоились. Затем они что-то крикнули Уварову прямо в лицо и заспешили к крепостным воротам вместе с Будило. Там открылась узкая вылазная дверь, и они скрылись за ней.
С Уваровым остался только Бутурлин. Смоленские окружили их, пристали с вопросами к Уварову. Но тот лишь махнул рукой. Его вид красноречиво говорил о безнадежности дальнейших переговоров.
А пальба у стен Китай-города, что выходили к Москве-реке, нарастала.
И смоленские, опасаясь, как бы в начавшейся драке не досталось и им, поспешили в свой лагерь. Они догадались, что это снова пошли на приступ Китай-города казаки Трубецкого. А значит, там будет жарко.
Вскоре они, ополченцы Пожарского, присоединились к казакам Трубецкого.
* * *
Яков и Михалка Бестужев с сотней смоленских служилых и с огромной толпой донцов ворвались в Никольские ворота Китай-города… Крики! Все орут!.. И бегут, бегут… Туда, где мелькают польские кафтаны и тускло отражаются клинки… Да, там, впереди, были они – пахолики и жолнеры… Они убегали, бежали из последних сил, истощённые голодом.
Голод. Он ощущался здесь повсюду. Даже серые заборы дворов, уцелевших от пожаров, выглядели так, будто их глодали.
Яков и Михалка пробежали мимо уцелевшей каменной церковки, такой же по виду, словно и она оголодала. Деревянные же постройки около неё все погорели. Кругом было черным-черно, одни лишь головёшки, раскиданные пожаром.
Бежавший впереди Якова казак в драном сермяжном кафтане внезапно остановился, хватает открытым ртом воздух… Запалился… Руки у него трясутся, но и возятся, ловко возятся с самопалом. Вот вскинул он его… Раздался выстрел. Почти у самого уха Якова. Оглушил его. Яков встряхнул головой, тоже стал хватать ртом воздух, как и казак, ничего не слыша.
Кругом, казалось ему, все разевали беззвучно рты, как рыбы, и бежали, бесшумно бежали непонятно куда…
И в то же самое мгновение, когда казак выстрелил, один из жолнеров, бежавший впереди, странно мотнул головой. Она откинулась назад так, словно его по спине ударили прикладом самопала. Затем ноги у него стали скручиваться в большой витой крендель, сырой и вязкий. Но вот этот крендель стал превращаться в безобразную гусеницу, когда та при опасности начинает сворачиваться своим отвратительным студенистым телом…
Но это прозвучало у него с сомнением в голосе.
– А ты что, считаешь, как порядок установится, так ты будешь в думе, что ли! Ха-ха-ха! – засмеялся Шаховской. – Мстиславский не даст тебе того! Он что сейчас там! – махнул он рукой в сторону Кремля. – С поляками в думе, что потом – без поляков, тоже будет в думе!
* * *
В сентябре вести об этих событиях, происшедших под Москвой, дошли и до Михайлова, до Заруцкого: от его лазутчиков, доброхотов, оставшихся там, чтобы так служить ему.
Казак, принесший ему вести, после того как его накормили и угостили водкой, стал рассказывать новости, что произошли там.
– И августа в двадцатый день пришёл под Москву князь Пожарский. С войском, из Ярославля… Люди-то у него все сытые. Не то что мы-то! – с обидой в голосе говорил он…
Заметив, как нахмурился Заруцкий, он заторопился, выкладывая новости: «А через два дня Ходкевич подошёл. Сперва-то он наткнулся на земцев, на князя Пожарского, с Кузьмой каким-то! А земцы-то, боярские дети, воюют плохо: чуть-чуть и пропустили бы его в Кремль. Да и то верно: сытому-то умирать не хочется»…
– Голодному тоже, – проворчал Бурба.
– Не скажи! – возразил казак ему. – Голодному-то терять нечего. Так вот, мы только и помогли им: казаки Трубецкого! – стал рассказывать он дальше. – Ходкевича-то побили здорово! Он и пошёл от Москвы.
Бурба уже вынес свой приговор ополченцам Пожарского, вспомнив того боярского сына, беспомощного, который оказался не в силах защитить дочь Годунова от казаков-баловней, насильников, таких, которые сейчас окружали его. И с которыми, по воле свыше, сейчас он находился в одной упряжке. Он, в прошлом крестьянин, живший своим трудом, не любил ни тех, ни других.
Заруцкий, выслушав казака, в этот же день принял решение немедля идти на Рязань. Надо было спешить, пока здесь ещё не все были в курсе новостей под Москвой.
«Почувствуют силу новой власти, земцев, тогда уже не подчинить!» – знал он по опыту.
К Рязани его полки вышли через две недели, как раз на бабье лето, на день Михаила[17 - 6 (19) сентября – чудо Архистратига Михаила.]. Лист пожелтел, но по ночам ещё было тепло. Они подошли к городу, остановились вдали. И сразу же, словно приветствуя их, полыхнули пушки с Ввозной башни. А вот заухало, казалось, всё вокруг. Над стеной клубами поднялся дым, и там, в просветах, замелькали шишаки и панцири.
Казаки спешились и пошли на ворота, прикрываясь за огромными деревянными щитам. Катили их, катили… Вот вдребезги разбит один из них ядром. И по казакам со стен ударили пищали и мушкеты. И стрелы, стрелы оттуда же свистят… И не выдержали казаки, охотники до быстрой драки. Вон там один дал тыл, за ним ещё с десяток трясут уже портами…
– Ах, собаки! Куда-а?! – заорал Заруцкий на казаков Ворзиги, которые побежали первыми.
Ещё можно было остановить их, повернуть. И всё начать сначала, пойти на приступ.
Но тут он увидел, что поднимается решетка [18 - Решетка – защитное устройство в воротах крепости, сделанное из толстых брусьев в виде громадной решетки, поднимаемой и опускаемой на цепях.]в воротах, а за ней маячат маленькие фигурки, их было много, на конях…
«Боярские дети! – мелькнуло у него. – Сейчас пойдут в атаку!»
И они смешают его пеших казаков.
Да, так и есть – пошли конные, с саблями. За ними высыпали из ворот стрельцы и, зарядив ружья, ударили вслед казакам: по спинам, шапкам, по ногам… Казаки падают, бегут… Побежали и сотни боярских детей, что ушли с ним от Трубецкого.
Заруцкий был вне себя от ярости. Теперь уже ничего не оставалось, как только уйти от стен Рязани. Когда он вернулся в Михайлов, то его встретили ещё одной неприятной новостью: сбежали все дьяки. И первым заводилой из них оказался Евдокимов Петька, тихоня.
Глава 5
Последнее сражение
За день до Иверской иконы Божьей Матери [19 - 13 (26) октября – праздник Иверской иконы Божией Матери.]на Якова Тухачевского свалилось дело. И дело важное. Его со смоленскими служилыми Пожарский приставил сопровождать Гришку Уварова на встречу с поляками, что сидели в Кремле. Это была уже вторая встреча. На них, на ополчение Пожарского, с предложением начать переговоры, вышел ротмистр из полка Будилы. Яков знал его ещё по прошлому, когда попал с Валуевым в войско Жолкевского. Там он случайно и познакомился с тем ротмистром, знал только его имя, Андрей. Парень тот оказался толковым, к тому же умным. Яков, уже по привычке, выпил с ним пару стопок водки. С этого и началось их знакомство. Дружбой не назовешь, враждовать вроде бы тоже не с чего было. Вот разве что по старой памяти не давала покоя Матрёна. Она что-то стала часто появляться во сне, уговаривала не верить полякам… Он слушал её, но у него всё выходило наоборот…
Яков с Михалкой Бестужевым и ещё с десятком смоленских подъехали по Тверской улице к мосту через Неглинку и спешились. Там, за Неглинкой, у китайгородской стены, никого не было.
День был безоблачным. Было ещё тепло, совсем как в мае. И от этого невольно накатывало блаженное состояние.
– Ты что улыбаешься-то? – толкнул его в бок Михалка. – Как дурачок перед манной кашей! Ха-ха!
Яков, шутя, дал ему подзатыльник. Так он иногда останавливал его брата, Ваську, когда тот, бывало, расходился, начинал зло подшучивать над ним.
Михалка дал ему сдачу. Началась потасовка. Они потолкались, потолкались и успокоились. Надо было соблюдать сдержанность, поскольку они были приставлены к немалому делу.
В это время с польской стороны, из-за китайгородской стены, в ворота вышли четыре человека.
Двух гусар, из этих, Яков уже знал. Они приходили на переговоры вчера. Третий был новеньким. А вот четвёртого он не спутал бы ни с кем. Это был Будило, Оська, полковник.
И те, с польской стороны, подошли к Уварову и Ивану Бутурлину. Последнего Пожарский отрядил заложником, в обмен на Оську. Так они, Пожарский и Струсь, собирались обменяться заложниками на время переговоров.
Гусары и Будило, отойдя в сторону с Уваровым и Бутурлиным, стали о чём-то говорить.
Оттуда, где стояли Яков и Михалка, ничего не было слышно. Но по выразительным жестам Уварова, а тот всегда жестикулировал, когда волновался, Яков догадался, что там идёт какой-то торг.
Переговоры затянулись. Видимо, поляки не хотели с чем-то соглашаться. Уваров же настаивал на том, на чём ему велел стоять Пожарский: поляки должны были немедленно освободить всех, кого они держали в Кремле заложниками. Затем сдаться сами. За это Пожарский гарантировал им жизнь. На большее он не соглашался.
Яков с Михалкой, видя, что до них никому нет дела, от скуки стали травить небылицы, отвлеклись от происходящего. И сразу вздрогнули, когда послышались частые ружейные выстрелы с другой стороны китайгородской стены. Откуда-то со стороны Яузы.
– Что, что там?! – заволновались они, переглядываясь с Уваровым.
Гусары тоже забеспокоились. Затем они что-то крикнули Уварову прямо в лицо и заспешили к крепостным воротам вместе с Будило. Там открылась узкая вылазная дверь, и они скрылись за ней.
С Уваровым остался только Бутурлин. Смоленские окружили их, пристали с вопросами к Уварову. Но тот лишь махнул рукой. Его вид красноречиво говорил о безнадежности дальнейших переговоров.
А пальба у стен Китай-города, что выходили к Москве-реке, нарастала.
И смоленские, опасаясь, как бы в начавшейся драке не досталось и им, поспешили в свой лагерь. Они догадались, что это снова пошли на приступ Китай-города казаки Трубецкого. А значит, там будет жарко.
Вскоре они, ополченцы Пожарского, присоединились к казакам Трубецкого.
* * *
Яков и Михалка Бестужев с сотней смоленских служилых и с огромной толпой донцов ворвались в Никольские ворота Китай-города… Крики! Все орут!.. И бегут, бегут… Туда, где мелькают польские кафтаны и тускло отражаются клинки… Да, там, впереди, были они – пахолики и жолнеры… Они убегали, бежали из последних сил, истощённые голодом.
Голод. Он ощущался здесь повсюду. Даже серые заборы дворов, уцелевших от пожаров, выглядели так, будто их глодали.
Яков и Михалка пробежали мимо уцелевшей каменной церковки, такой же по виду, словно и она оголодала. Деревянные же постройки около неё все погорели. Кругом было черным-черно, одни лишь головёшки, раскиданные пожаром.
Бежавший впереди Якова казак в драном сермяжном кафтане внезапно остановился, хватает открытым ртом воздух… Запалился… Руки у него трясутся, но и возятся, ловко возятся с самопалом. Вот вскинул он его… Раздался выстрел. Почти у самого уха Якова. Оглушил его. Яков встряхнул головой, тоже стал хватать ртом воздух, как и казак, ничего не слыша.
Кругом, казалось ему, все разевали беззвучно рты, как рыбы, и бежали, бесшумно бежали непонятно куда…
И в то же самое мгновение, когда казак выстрелил, один из жолнеров, бежавший впереди, странно мотнул головой. Она откинулась назад так, словно его по спине ударили прикладом самопала. Затем ноги у него стали скручиваться в большой витой крендель, сырой и вязкий. Но вот этот крендель стал превращаться в безобразную гусеницу, когда та при опасности начинает сворачиваться своим отвратительным студенистым телом…