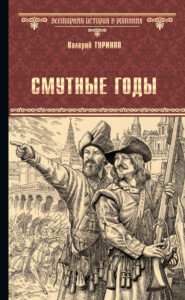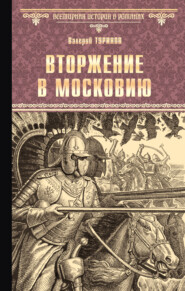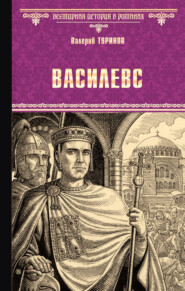По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На краю государевой земли
Серия
Год написания книги
2009
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава 4. Поход в «Кузнецкую» землицу
Прошло два с половиной месяца. В Томске появился новый воевода, Гаврило Юдич Хрипунов. Василий Волынский уехал в Москву стольничать при дворе царя Михаила Романова. Его брат Федор там же. Их старые замыслы, повоевать тунгусов, так и не сбылись. Новому великому князю пока не до того: Московия еще не оправилась от смуты и разорения, обнищала государевой казной.
На Егория осеннего у Пущина был намечен поход большим отрядом в «Кузнецкую» землицу, чтобы обложить ее ясаком, крепко подвести под государеву руку. Отряд сколачивали тяжело. Служилые только-только вернулись со своих «суземий» и «угожий»[41 - Суземье (сузёмок) – глухой, сплошной, отъемный лес, волок, дремучие леса, вообще – дальняя тайга. Угожий – удобный, пригодный, полезный, сручный, потребный.], где зверовали первым осенним выходом. И Хрипунов дал им неделю на отдых и сборы в поход.
Последние дни, перед походом, Дарья кормила своих мужиков до отвала. А на выход она закатила настоящий пир. И получилось совсем по-праздничному, когда Иван распечатал еще и жбан с бражкой, что тосковала в тепле за печкой, тужилась до своего урочного часа.
– Поторите снежок-то. Растрясетесь живо. Вот тогда и вспомните мою стряпню! – ворчливо отозвалась Дарья, когда Иван заикнулся было, что она зря убивается так…
С утра на следующий день Иван и Васятка ушли в съезжую.
Федька же проснулся поздно и сразу уселся за стол, под образами, и стал доедать остатки от вчерашнего обеда. Громко чавкая, он обгладывал кости, с шумом высасывал из них мозги.
– Вкусно!.. Хм!.. Мамка, так я ж говорю, ты у нас это… За воеводу… Батька-то воевод шибко боится. Хи-хи!
– Много ты понимаешь! – обиделась Дарья за мужа. – Вон – сопли, а туда же – на батьку!
– Гы-гы! – растянул Федька рот, довольный, что зацепил мать; та все за отца, да за отца.
Дарья недовольно покосилась на сына.
– Эх, ты-ы!
Она ничего не сказала больше, накинула телогрею и вышла из избы, чтобы перебрать в подклети толокно в дорогу мужикам. Там уже сидела за этим занятием Маша. И тут же, подле нее, крутилась Варька, укутанная в меховую кацавейку, чтобы не простыла в холодной подклети.
Время за работой летит быстро. Тем более все молчком, да молчком, так как у Дарьи с Машей опять все не заладилось.
Когда она вернулась назад в избу, вместе с Варькой, то от огорчения всплеснула руками и чуть было не расплакалась. Перед ней предстала печальная картина: Федька сидел все так же за столом, но пьяный в дугу. А подле него на лавке стоял откупоренный жбан с бражкой и большая кружка, которая, было заметно, уже не раз полоскалась в нем. Дарья замечала и раньше, что Федька по-воровски прикладывается к бражке; та у них не переводилась: для гостей, да и самим иной раз, сам бог велел, повеселиться. Но чтобы вот так, в открытую, во всю ширь, да еще нализаться, такого раньше не было. И она возмутилась, набросилась на него с бранью.
В эту минуту в избу вошла Маша и тоже обомлела оттого, что увидела.
А Федька выполз из-за стола, пьяно покачиваясь, подвалил к ней и ухватил ее как-то больно ловко, сноровисто, уже по-мужицки, крепко, стал лапать и тискать.
– Машка, ты это брось – мужиков-то мне портить! – взвилась Дарья, ошарашенная тем, что ее сын, еще молокосос, а вот, поди ты, туда же…
– Мамка, не лезь! – пьяно закричал Федька. – У нас – того!.. Либовь!
– Я покажу тебе, сопляк, либовь! По ночам еще мочишься, а туда же – либовь! А тебе, сучка, что?! Кобелей в острожке мало!..
– Дашка, так он сам, сам дороги не дает! Хы-хы!.. Как я куда пойду – так он шасть, и за поленицу, да под подол! – захныкала Маша. – Я уж его и так, и так – коромыслом! Эвон – бык-то какой! Коромысло-то хрясь – ему кабы что!.. В тебя уродился-то! Хы-хы!..
Отбиваясь от Федьки, она вывернулась из его пьяных рук. Когда же он попытался снова поймать ее, она выскочила из избы и резко захлопнула за собой дверь. Федька ринулся было за ней, но спьяну ударился лбом о дверной косяк, взвыл, закрутился волчком, замотал башкой, как медведь, угодивший под колодину, настороженную на звериной тропе, да не на него, не по его кости.
Дарья не заметила, как у него в руках оказался топор, что всегда валялся под печкой: дрова поколоть или щепок натесать. И размахивая им, он забегал по избе, одуревший от сивухи, от этой сучки Машки, от звона в голове… Словно обезумев, он стал крушить все подряд, рубить на полный мах, уже мужицкого роста.
– Убью, убью! – завопил он, ну прямо зверь зверем, только о двух ногах, да в портах, ею чиненых перечиненных. – Машка, где ты…! – врезал он пару раз топором со всего плеча по косяку, наградившему его здоровенным синяком. Затем он рубанул по двери, за которой скрылась остячка, и пошел, пошел перебирать топориком все, что встречалось на пути.
Наотмашь срубил он и занавеску. Та упала, накрыла его. А он завертелся, пытаясь сбросить ее, заметался по избе огромным ситцевым платком.
– Что же ты, изверг, делаешь-то! – застонала Дарья, увертываясь от сына; тот, сослепу, мог порешить и ее. – Ситчик-то, ситчик где же достать!..
Проснулся и захныкал Гришатка, разбуженный дикими вскриками в избе: самый маленький отпрыск их семейства. Годик еще минуло ему, родился уже здесь, в Томске. Дарья кинулась к люльке, встала подле нее, заслонила малыша, опасаясь, что хмель качнет Федьку в эту сторону… Родился Гришатка хиленьким, весом вдвое меньше, чем родился Федька. Был он слабеньким, болезненным. Из-за этого она подтрунивала над мужем: износился-де на службе-то, все, больше рожать не буду…
А Федька рубанул через ситчик по столу, с грохотом опрокинул лавку, отшатнулся к печке и смахнул с припечка чугунок. По избе ударило запахом свежих щей. Ошпаренный кипятком, он взревел, стал сдирать с рук горячие ошметки капустного листа… Затем он снова засновал туда-сюда, полосуя топором ситчик… Наконец, он скинул его, остановился раскорякой посреди избы с топором, который словно прилип к его руке, тупо огляделся и осклабился.
– Мамка, дай выпить!.. В груди жгёт, вот тут!
– Я тебе дам, зараза! – вскричала Дарья и только сейчас заметила, что осталась в избе один на один с сыном: Маша куда-то ускакала за дверь, а за ней выбежала и Варька.
«Соседей, должно быть, собирают!.. Мужиков!»
– Ох ты, горе мое! Господи, да когда же ты заберешь-то меня! Моченьки уже нет жить на этом свете! – заголосила она.
Федька уставился на нее, силясь что-то сообразить.
В этот момент дверь избы с треском распахнулась, и на пороге появился Иван. Увидев отца, Федька набычился, двинулся на него, сжимая все так же в руке топор, взвизгнул:
– Уйди, батя! Зарублю!
– Ах ты – сосунок! – рявкнул Иван, не сводя глаз с топора в руке сына, готовый отскочить в сторону.
В избу, вслед за ним, тут же влетел Васятка, метнулся из-за его спины, сшиб с ног Федьку и вырвал у него из рук топор. В избу сразу поналезли мужики, до того нерешительно топтавшиеся подле крыльца. Они навалились на Федьку, связали его веревками и бросили в угол. Федька что-то замычал, стал кому-то грозить…
– Лежи, лежи!.. Ишь, герой-то какой!.. На баб – с топором!
– Сотник, глянь, как он укусил палец-то! Чисто ножом полоснул!.. Варнак!..
Мужики посудачили, что вот-де какие мальцы нынче пошли – выпьет и на мать, с топором, – и разошлись по своим дворам.
А Федька поскулил, повозился и уснул в неестественной позе с затянутыми назад руками, согнутый пополам в углу подле сундука.
Проснулся он ночью, когда в избе все спали: тревожно, взвинченные после ругани и разбирательства, кто и в чем виноват. Он заплакал в темноте, снова переполошил всех в избе.
– Мамка, да развяжи ты! Руки больно, стыло! Не чую, не чую!.. Больно же, больно! Гы-гы-гы!
Дарья вскочила с постели, подбежала к нему, завозилась над крепкими мужицкими узлами.
Сзади к ней подскочил Иван:
– Не смей!
Дарья оттолкнула его с силой так, что он отлетел в сторону и расшибся о лавку, взвыл и давай честить жену:
– Ты, ты виной тому! Твоя порода! Щенок!.. – Досыта наругавшись, он забрался на полати – к Васятке.
– Дядя Ваня, пускай, – с чего-то виновато пробормотал тот, чтобы успокоить его.
В углу же, развязав Федьке руки, Дарья стала сердито шептаться о чем-то с ним. Затем она прошлепала босыми ногами по полу, принесла и бросила ему овчинный тулуп, принесла и краюху хлеба с ковшиком кваса. И Федька, умяв хлеб, уснул.
Прошло два с половиной месяца. В Томске появился новый воевода, Гаврило Юдич Хрипунов. Василий Волынский уехал в Москву стольничать при дворе царя Михаила Романова. Его брат Федор там же. Их старые замыслы, повоевать тунгусов, так и не сбылись. Новому великому князю пока не до того: Московия еще не оправилась от смуты и разорения, обнищала государевой казной.
На Егория осеннего у Пущина был намечен поход большим отрядом в «Кузнецкую» землицу, чтобы обложить ее ясаком, крепко подвести под государеву руку. Отряд сколачивали тяжело. Служилые только-только вернулись со своих «суземий» и «угожий»[41 - Суземье (сузёмок) – глухой, сплошной, отъемный лес, волок, дремучие леса, вообще – дальняя тайга. Угожий – удобный, пригодный, полезный, сручный, потребный.], где зверовали первым осенним выходом. И Хрипунов дал им неделю на отдых и сборы в поход.
Последние дни, перед походом, Дарья кормила своих мужиков до отвала. А на выход она закатила настоящий пир. И получилось совсем по-праздничному, когда Иван распечатал еще и жбан с бражкой, что тосковала в тепле за печкой, тужилась до своего урочного часа.
– Поторите снежок-то. Растрясетесь живо. Вот тогда и вспомните мою стряпню! – ворчливо отозвалась Дарья, когда Иван заикнулся было, что она зря убивается так…
С утра на следующий день Иван и Васятка ушли в съезжую.
Федька же проснулся поздно и сразу уселся за стол, под образами, и стал доедать остатки от вчерашнего обеда. Громко чавкая, он обгладывал кости, с шумом высасывал из них мозги.
– Вкусно!.. Хм!.. Мамка, так я ж говорю, ты у нас это… За воеводу… Батька-то воевод шибко боится. Хи-хи!
– Много ты понимаешь! – обиделась Дарья за мужа. – Вон – сопли, а туда же – на батьку!
– Гы-гы! – растянул Федька рот, довольный, что зацепил мать; та все за отца, да за отца.
Дарья недовольно покосилась на сына.
– Эх, ты-ы!
Она ничего не сказала больше, накинула телогрею и вышла из избы, чтобы перебрать в подклети толокно в дорогу мужикам. Там уже сидела за этим занятием Маша. И тут же, подле нее, крутилась Варька, укутанная в меховую кацавейку, чтобы не простыла в холодной подклети.
Время за работой летит быстро. Тем более все молчком, да молчком, так как у Дарьи с Машей опять все не заладилось.
Когда она вернулась назад в избу, вместе с Варькой, то от огорчения всплеснула руками и чуть было не расплакалась. Перед ней предстала печальная картина: Федька сидел все так же за столом, но пьяный в дугу. А подле него на лавке стоял откупоренный жбан с бражкой и большая кружка, которая, было заметно, уже не раз полоскалась в нем. Дарья замечала и раньше, что Федька по-воровски прикладывается к бражке; та у них не переводилась: для гостей, да и самим иной раз, сам бог велел, повеселиться. Но чтобы вот так, в открытую, во всю ширь, да еще нализаться, такого раньше не было. И она возмутилась, набросилась на него с бранью.
В эту минуту в избу вошла Маша и тоже обомлела оттого, что увидела.
А Федька выполз из-за стола, пьяно покачиваясь, подвалил к ней и ухватил ее как-то больно ловко, сноровисто, уже по-мужицки, крепко, стал лапать и тискать.
– Машка, ты это брось – мужиков-то мне портить! – взвилась Дарья, ошарашенная тем, что ее сын, еще молокосос, а вот, поди ты, туда же…
– Мамка, не лезь! – пьяно закричал Федька. – У нас – того!.. Либовь!
– Я покажу тебе, сопляк, либовь! По ночам еще мочишься, а туда же – либовь! А тебе, сучка, что?! Кобелей в острожке мало!..
– Дашка, так он сам, сам дороги не дает! Хы-хы!.. Как я куда пойду – так он шасть, и за поленицу, да под подол! – захныкала Маша. – Я уж его и так, и так – коромыслом! Эвон – бык-то какой! Коромысло-то хрясь – ему кабы что!.. В тебя уродился-то! Хы-хы!..
Отбиваясь от Федьки, она вывернулась из его пьяных рук. Когда же он попытался снова поймать ее, она выскочила из избы и резко захлопнула за собой дверь. Федька ринулся было за ней, но спьяну ударился лбом о дверной косяк, взвыл, закрутился волчком, замотал башкой, как медведь, угодивший под колодину, настороженную на звериной тропе, да не на него, не по его кости.
Дарья не заметила, как у него в руках оказался топор, что всегда валялся под печкой: дрова поколоть или щепок натесать. И размахивая им, он забегал по избе, одуревший от сивухи, от этой сучки Машки, от звона в голове… Словно обезумев, он стал крушить все подряд, рубить на полный мах, уже мужицкого роста.
– Убью, убью! – завопил он, ну прямо зверь зверем, только о двух ногах, да в портах, ею чиненых перечиненных. – Машка, где ты…! – врезал он пару раз топором со всего плеча по косяку, наградившему его здоровенным синяком. Затем он рубанул по двери, за которой скрылась остячка, и пошел, пошел перебирать топориком все, что встречалось на пути.
Наотмашь срубил он и занавеску. Та упала, накрыла его. А он завертелся, пытаясь сбросить ее, заметался по избе огромным ситцевым платком.
– Что же ты, изверг, делаешь-то! – застонала Дарья, увертываясь от сына; тот, сослепу, мог порешить и ее. – Ситчик-то, ситчик где же достать!..
Проснулся и захныкал Гришатка, разбуженный дикими вскриками в избе: самый маленький отпрыск их семейства. Годик еще минуло ему, родился уже здесь, в Томске. Дарья кинулась к люльке, встала подле нее, заслонила малыша, опасаясь, что хмель качнет Федьку в эту сторону… Родился Гришатка хиленьким, весом вдвое меньше, чем родился Федька. Был он слабеньким, болезненным. Из-за этого она подтрунивала над мужем: износился-де на службе-то, все, больше рожать не буду…
А Федька рубанул через ситчик по столу, с грохотом опрокинул лавку, отшатнулся к печке и смахнул с припечка чугунок. По избе ударило запахом свежих щей. Ошпаренный кипятком, он взревел, стал сдирать с рук горячие ошметки капустного листа… Затем он снова засновал туда-сюда, полосуя топором ситчик… Наконец, он скинул его, остановился раскорякой посреди избы с топором, который словно прилип к его руке, тупо огляделся и осклабился.
– Мамка, дай выпить!.. В груди жгёт, вот тут!
– Я тебе дам, зараза! – вскричала Дарья и только сейчас заметила, что осталась в избе один на один с сыном: Маша куда-то ускакала за дверь, а за ней выбежала и Варька.
«Соседей, должно быть, собирают!.. Мужиков!»
– Ох ты, горе мое! Господи, да когда же ты заберешь-то меня! Моченьки уже нет жить на этом свете! – заголосила она.
Федька уставился на нее, силясь что-то сообразить.
В этот момент дверь избы с треском распахнулась, и на пороге появился Иван. Увидев отца, Федька набычился, двинулся на него, сжимая все так же в руке топор, взвизгнул:
– Уйди, батя! Зарублю!
– Ах ты – сосунок! – рявкнул Иван, не сводя глаз с топора в руке сына, готовый отскочить в сторону.
В избу, вслед за ним, тут же влетел Васятка, метнулся из-за его спины, сшиб с ног Федьку и вырвал у него из рук топор. В избу сразу поналезли мужики, до того нерешительно топтавшиеся подле крыльца. Они навалились на Федьку, связали его веревками и бросили в угол. Федька что-то замычал, стал кому-то грозить…
– Лежи, лежи!.. Ишь, герой-то какой!.. На баб – с топором!
– Сотник, глянь, как он укусил палец-то! Чисто ножом полоснул!.. Варнак!..
Мужики посудачили, что вот-де какие мальцы нынче пошли – выпьет и на мать, с топором, – и разошлись по своим дворам.
А Федька поскулил, повозился и уснул в неестественной позе с затянутыми назад руками, согнутый пополам в углу подле сундука.
Проснулся он ночью, когда в избе все спали: тревожно, взвинченные после ругани и разбирательства, кто и в чем виноват. Он заплакал в темноте, снова переполошил всех в избе.
– Мамка, да развяжи ты! Руки больно, стыло! Не чую, не чую!.. Больно же, больно! Гы-гы-гы!
Дарья вскочила с постели, подбежала к нему, завозилась над крепкими мужицкими узлами.
Сзади к ней подскочил Иван:
– Не смей!
Дарья оттолкнула его с силой так, что он отлетел в сторону и расшибся о лавку, взвыл и давай честить жену:
– Ты, ты виной тому! Твоя порода! Щенок!.. – Досыта наругавшись, он забрался на полати – к Васятке.
– Дядя Ваня, пускай, – с чего-то виновато пробормотал тот, чтобы успокоить его.
В углу же, развязав Федьке руки, Дарья стала сердито шептаться о чем-то с ним. Затем она прошлепала босыми ногами по полу, принесла и бросила ему овчинный тулуп, принесла и краюху хлеба с ковшиком кваса. И Федька, умяв хлеб, уснул.