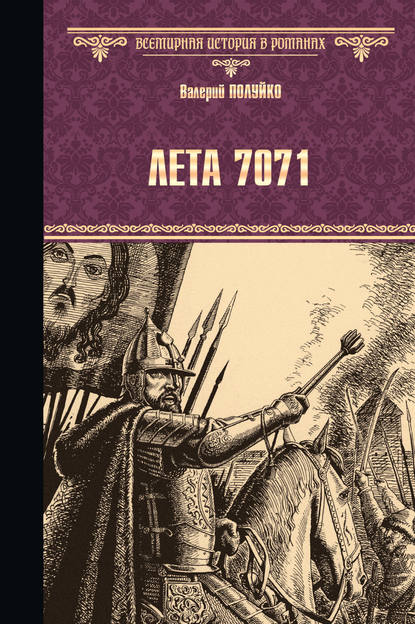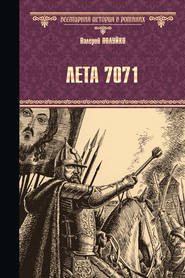По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лета 7071
Год написания книги
1979
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лишь только обнесли жареными карасями в грибах и стерляжьим студнем с печеным луком, вылез из-за стола и откланялся воевода Морозов. Лицо его лоснилось – не столько от жары и выпитого вина, сколько от стыдливой испарины. Стыдно было воеводе показывать свою трусость… Хоть и пил он вместе с Челядниным за царя, и речей крамольных не говаривал, но лучше быть подальше от греха. Как все обернется – поди узнай! Сам-то он доносить не собирался и в мыслях такого не держал, но за других – где порука? Чужая душа – потемки. Донесли же на Серебряного! А ежели царь прознает про нынешние речи, никому не минется – ни говорунам, ни слухцам. Ему так и подавно защиты не у кого искать. За Шуйского да за Пронского все именитые встанут, вся дума заропщет… Да и царь гневлив и крут, а с разбором: на исконных, на Рюриковичей, лишь замахивается, а головы летят у таких, как он. Нет уж, своя рогожа чужой рожи дороже!
Вслед за Морозовым поднялся Щенятев. Во весь вечер ни слова не вымолвил он, и только один виночерпий замечал его за столом. Щенятев всегда был молчуном, но, когда его обделяли местом, как сегодня – в Разрядной избе, тогда он молчал, как Христос на голгофе. Все знали за ним эту странность, но за труса его никто не знал. Бесстрашие Щенятева было ведомо всем, и всем было в зависть: кому в добрую, кому в худую. Доброй завистью он не тешился, от худой не страдал, ибо и самым злым своим завистникам не давал повода для злословия и насмешек: он не боялся ни смерти в бою, ни царя в миру, ни всех своих завистников и врагов. Оттого-то и царь его не миловал! Нынче и полка ему не поручил – Горенскому отдал, который по всем статьям был ему не в версту.
Удивились воеводы, когда увидели, что Щенятев откланялся князю Владимиру. Удивление быстро сменилось тревогой. Щенятев своим неожиданным уходом вконец переполошил их: раз уж и у Щенятева не хватило духу, значит, зарвались, наворотили такого, о чем и вспомнить будет страшно.
– Ишь, баловес! – засмеялся Шуйский. – Пошел на конюшню с конем говорить. У него всегда так… Душу отводит токмо с конем.
Только смех и объяснение Шуйского никого не успокоили. Воеводы заерзали, завздыхали, стали по одному вылезать из-за стола, кланяться князю… Тот никого не удерживал. Он, видать, и сам был рад их уходу: молча принимал поклоны, молча провожал глазами до двери.
Когда за боярским столом вместе с Шуйским остались лишь Оболенский и Серебряный, Шуйский зачерпнул из ендовы полный черпак вина и, не переливая его в свою чашу, хлобыстнул одним духом, как будто выплеснул за спину. Отдышавшись, лениво зевнул, натуженно выжевал искореженным ртом:
– Разбеглись… Се их Щеня распужал! Он на конюшню, а они под образа! Ну хрен по хрену! Мы Рюриковичи, князь! Мы как персты в кулаке! – Он сжал кулак, повертел его перед своими глазами, показал князю Владимиру – тот ободренно улыбнулся. – Нас нелегко одолеть! А тем овнам словесным он споро хребет сломит!
– Я всегда помню, что вы, Шуйские, меня с матушкой из темницы вызволили, – сказал льстиво князь Владимир. – Матушка ежелет на помин сродников твоих в Свято-Троицкий монастырь вклад делает.
– Отец твой помер в цепях – вот жаль! – вздохнул Шуйский. – Смелой души человек был князь Андрей! Не доверься тогда он Елене… На слово ее…
– Не против престола шел – оттого и доверился, – сказал Челяднин. – Себя оборонить хотел.
– Не против престола? – Шуйский долгим взглядом уперся в Челяднина. – Пошто же сразу к ее ногам не притек? Не доверился Богу и судьбе? Рать поднял?! К новгородцам пошел?!
– Елене он верил, – ответил Челяднин. – Любимцев ее страшился. Телепнев больно ко многому руки простер тогда… А Елена Телепневу благоволила.
– Благоволила?! – скабрезно осклабился Шуйский. – На постелю к себе брала!
– Батюшка мой не искал вреда престолу, то истинно, – сказал свое слово и князь Владимир, но видно было, что сам он так никогда не думал, а только повторил слова Челяднина.
– Эка заладили! – Шуйский тряхнул головой, взял с блюда кусок мяса, запустил в него зубы…
Все молчали: Челяднин – устало, князь Владимир – растерянно, Патрикий – выжидающе, Пронский – угрюмо и тупо, как грозный страж, приставленный к великой тайне. Молчал Серебряный, молчал Оболенский – всем им разбередил душу Шуйский.
В наступившей тишине громко раздавалось его яростное чавканье. Виночерпий плеснул ему в чашу вина. Шуйский запил, утер ладонью замасленные губы, зло обкосил Серебряного и Оболенского.
– Твой сродничек, Серебряный, и твой, Оболенский, все сие устроил! Не вздурись он властью, не собери полки против князя Андрея… Да что – полки?! Не завлеки он лукавством его на Москву, посулив Еленино прощенье, быть бы Старице крепкою вотчиной! Эх! – Шуйский закинул руки за голову, выпятил грудь, блаженно вздохнул. – Сел бы я на коня да и отъехал к иному господарю! Как бывало ранее, при дедах и прадедах: не сдружился с московским князем – отъехал к тверскому… А с тверским не поладил – к ярославскому!
– Оттого-то и пировало на Руси всякое воронье: то печенеги, то половцы, то татары! – холодно заметил Челяднин.
– Сие верно, боярин, – так же холодно согласился Шуйский. – Ну а ныне пируют Темрюки да лапотники! А мы, Рюриковичи, – соль от соли, мы – корни и ветви великого древа, что зовется Русью, смотрим, терпим и ждем топора. Топора! – крикнул он и вдруг сник, будто что-то сломилось в нем – какая-то подпора, на которой все это время держались и его злость, и негодование, и трезвость. Борода его распласталась по кафтану, придавленная поникшей головой, руки упали куда-то вниз, будто вовсе оторвались, даже казалось, что он и сам вывалился из кафтана, оставив на шелковых завязках проймы только одну голову.
– Что же, пора и честь знать, – сказал, поднимаясь из-за стола, Челяднин. – Вам от заутрени – в поход, мне – в путь. Славной победы желаю вам, воеводы, и да убережет вас Бог от шальной беды! В живе и здраве хочу узреть вас всех на Москве. Тебе, князь, великая благодарность и низкий поклон за гостеприимство! – Челяднин низко поклонился князю Владимиру. – За честь, за величанье – також!
– Путь твой – на Ржев, боярин, – сказал Челяднину Владимир. – Не обмини Старицы… Заверни, поклонись матушке. Скажи, Бог дает, в здраве я и в печали о ней. Пусть молится обо мне… и женишке передай мой поклон, и слово любезное, и печаль мою о ней. Дело, скажи, ратное захватило меня. Поуправимся с крепостью – на рысях прискачу. И еще скажи: царской милостью я сполна одарен и с ним вместе на крепость иду. Пусть молятся обо мне!
5
Челяднин подъезжал к Москве по Можайской дороге. Ночь он отночевал в Звенигороде – у городского наместника, а утром чем свет отъехал на Москву.
С радостью и облегчением проводил его со своего подворья звенигородский наместник. Отлегло у него от души: думал, небось, загостится опальный боярин… Трусил наместник, берег свою голову. Знал он добрую старую заповедь: не лезь зернинка меж жернова, и жил по этой заповеди. Да Челяднин и не обиделся на негостеприимство наместника, подумал лишь с горечью, отъезжая: «Застращал царь-батюшка! Уж и гостеприимством боятся провинить!»
Покидая Звенигород, Челяднин прежде заехал в монастырь Савы Сторожевского – поклониться Спасу Нерукотворному…
Знаменит был сторожевский Спас. Написал его лет полтораста назад московский иконописец Андрей Рублев по слову самого Савы Сторожевского, основателя и первого настоятеля монастыря, и пошла с той поры по всей Русской земле молва о добром Спасе звенигородском, который одним своим взглядом приносит людям радость и утешение.
Впервые увидел Челяднин эту икону лет сорок назад, когда сопровождал отправившегося на моления по подмосковным монастырям великого князя Василия, отца нынешнего государя, и с тех пор уже ни разу не преминул Звенигорода, не преклонив головы перед поразившим его образом.
Могучей, не человеческой, но и не божественной добротой оживил глаза Спасу Рублев. Он смотрел с иконостаса пытливо и чутко, но спокойно, не осуждая и не грозя; как будто забыв о греховности рода человеческого, образумить и возродить который он был призван. Пытливость его тоже не была той страшной, всевидящей пытливостью, от которой сникают и потупляются души. Он допытывал мирно и ласково, как допытывают о боли, чтобы унять ее.
Все самое сокровенное тянулось из души на зов его чутких глаз: унималась ненависть, никло зло, исчезали обиды, сомнения, страхи, душа очищалась легко и свободно без долгих молитв и взываний. Глаза Спаса пророчили радость, большую и светлую радость – и в этом, в ином мире, которому он один был и провозвестник, и свидетель. Смятенный дух и сознание оживали пред его доброй и мудрой неколебимостью, и за ней, как за неразрушимой защитой, нарождалась в успокоенной и освобожденной душе собственная сила – сила восторжествовавшего добра.
Этим-то и влек к себе Челяднина рублевский Спас. Он никогда не видел в нем Бога, он видел в нем человека и приходил к нему как к человеку, порой будучи не в силах осенить себя перед ним крестом.
Последний раз он приходил к нему десять лег назад – изгнанником, отверженным… Всю свою злобу, ненависть, всю свою боль, тоску, отчаянье принес тогда он пред его глаза, и они помогли ему выстоять, помогли сохранить надежду и веру в свою правоту.
Теперь он принес к нему свои сомнения, разочарованность, уныние… О многом он хотел поведать Спасу, от многого избавиться с его помощью, во многом утвердиться.
…Все тот же чистый взгляд, уверенный, чуткий, и все та же нерасторжимость силы и добра в его спокойствии, над которым ничто не властвовало в этом мире.
Челяднин стоял замлевший, не чувствуя ни рук, ни ног… Он словно приподнялся над собой, оставив на холодных плитах храма всю тяжесть своей души, скопившуюся в ней за долгие годы изгнания. Сквозь жухлый мрак, лишь чуть разжиженный редкими свечами, на него смотрели глаза, которые теперь еще сильней, чем прежде, казались ему живыми.
За его спиной тихо молился монах, приведший его в храм. Челяднин повернулся к монаху, со страхом сказал:
– Отче, грешен я… Не могу пред ликом его крестом осенить себя.
Неожиданное признание Челяднина словно бы смутило монаха. Он прервал молитву, поднял глаза на икону, долго, неотрывно смотрел на нее.
За алтарем, под крутыми сводами, сырой холстиной висел мрак. Тишина и покой стерегли каждый шорох.
– Разумею тя, сын мой, – неожиданно громко промолвил монах, словно хотел отпугнуть эту прислушивающуюся тишину. – Став послушником, поперву також неволил себя… Грешною мыслию терзался, что – не Бог он… Ликом, истинно, он человек. Грешно крест пред человеком возносить. Но потом уразумел всей душой своей, аки доступно уразуметь пребывающему в мире оном, что он бо и есть истинный Бог, иже на небе и в душах наших.
– Просвети, отче!..
– Пред ликом его, сын мой, душа яко бы вновь нарождается: вся худь и скверна вон исторгаются из нее, остается добро, и свет, и радость велия.
– Истинно так, отче… Дух ободряется, будто к свету приходишь. Доведи, отче, сила какая в нем?
– Сам како мнишь?
– Мысли мои неясны, отче… Мню, мастера искусность тайная.
– Оные образа искусней писаны: колер паче леп, золото чище… Святой Петр, митрополит московский, писал многие иконы святые, видом чудные… Святой Феодор, архиепископ Ростовский, писал також многие иконы чудные… На Москве обретается его письма икона – деисус, у святого Николы на Болвановке. Доводилось тебе ее зреть?
– Доводилось, отче… Чудный образ!
– Вельми искусный, преславный Феофан, родом гречин, расписавший церкви каменны по градам заморским и русским… На Москве им расписана Благовещения святой богородицы, Святого Архангела Михаила да Рождества Богородицы. Стоял ты пред теми росписями, сын мой?
– Стоял, отче… Многажды стоял. В отрочество, в юность и в зрелость.
– Тако ли тя очищал вид их?
Вслед за Морозовым поднялся Щенятев. Во весь вечер ни слова не вымолвил он, и только один виночерпий замечал его за столом. Щенятев всегда был молчуном, но, когда его обделяли местом, как сегодня – в Разрядной избе, тогда он молчал, как Христос на голгофе. Все знали за ним эту странность, но за труса его никто не знал. Бесстрашие Щенятева было ведомо всем, и всем было в зависть: кому в добрую, кому в худую. Доброй завистью он не тешился, от худой не страдал, ибо и самым злым своим завистникам не давал повода для злословия и насмешек: он не боялся ни смерти в бою, ни царя в миру, ни всех своих завистников и врагов. Оттого-то и царь его не миловал! Нынче и полка ему не поручил – Горенскому отдал, который по всем статьям был ему не в версту.
Удивились воеводы, когда увидели, что Щенятев откланялся князю Владимиру. Удивление быстро сменилось тревогой. Щенятев своим неожиданным уходом вконец переполошил их: раз уж и у Щенятева не хватило духу, значит, зарвались, наворотили такого, о чем и вспомнить будет страшно.
– Ишь, баловес! – засмеялся Шуйский. – Пошел на конюшню с конем говорить. У него всегда так… Душу отводит токмо с конем.
Только смех и объяснение Шуйского никого не успокоили. Воеводы заерзали, завздыхали, стали по одному вылезать из-за стола, кланяться князю… Тот никого не удерживал. Он, видать, и сам был рад их уходу: молча принимал поклоны, молча провожал глазами до двери.
Когда за боярским столом вместе с Шуйским остались лишь Оболенский и Серебряный, Шуйский зачерпнул из ендовы полный черпак вина и, не переливая его в свою чашу, хлобыстнул одним духом, как будто выплеснул за спину. Отдышавшись, лениво зевнул, натуженно выжевал искореженным ртом:
– Разбеглись… Се их Щеня распужал! Он на конюшню, а они под образа! Ну хрен по хрену! Мы Рюриковичи, князь! Мы как персты в кулаке! – Он сжал кулак, повертел его перед своими глазами, показал князю Владимиру – тот ободренно улыбнулся. – Нас нелегко одолеть! А тем овнам словесным он споро хребет сломит!
– Я всегда помню, что вы, Шуйские, меня с матушкой из темницы вызволили, – сказал льстиво князь Владимир. – Матушка ежелет на помин сродников твоих в Свято-Троицкий монастырь вклад делает.
– Отец твой помер в цепях – вот жаль! – вздохнул Шуйский. – Смелой души человек был князь Андрей! Не доверься тогда он Елене… На слово ее…
– Не против престола шел – оттого и доверился, – сказал Челяднин. – Себя оборонить хотел.
– Не против престола? – Шуйский долгим взглядом уперся в Челяднина. – Пошто же сразу к ее ногам не притек? Не доверился Богу и судьбе? Рать поднял?! К новгородцам пошел?!
– Елене он верил, – ответил Челяднин. – Любимцев ее страшился. Телепнев больно ко многому руки простер тогда… А Елена Телепневу благоволила.
– Благоволила?! – скабрезно осклабился Шуйский. – На постелю к себе брала!
– Батюшка мой не искал вреда престолу, то истинно, – сказал свое слово и князь Владимир, но видно было, что сам он так никогда не думал, а только повторил слова Челяднина.
– Эка заладили! – Шуйский тряхнул головой, взял с блюда кусок мяса, запустил в него зубы…
Все молчали: Челяднин – устало, князь Владимир – растерянно, Патрикий – выжидающе, Пронский – угрюмо и тупо, как грозный страж, приставленный к великой тайне. Молчал Серебряный, молчал Оболенский – всем им разбередил душу Шуйский.
В наступившей тишине громко раздавалось его яростное чавканье. Виночерпий плеснул ему в чашу вина. Шуйский запил, утер ладонью замасленные губы, зло обкосил Серебряного и Оболенского.
– Твой сродничек, Серебряный, и твой, Оболенский, все сие устроил! Не вздурись он властью, не собери полки против князя Андрея… Да что – полки?! Не завлеки он лукавством его на Москву, посулив Еленино прощенье, быть бы Старице крепкою вотчиной! Эх! – Шуйский закинул руки за голову, выпятил грудь, блаженно вздохнул. – Сел бы я на коня да и отъехал к иному господарю! Как бывало ранее, при дедах и прадедах: не сдружился с московским князем – отъехал к тверскому… А с тверским не поладил – к ярославскому!
– Оттого-то и пировало на Руси всякое воронье: то печенеги, то половцы, то татары! – холодно заметил Челяднин.
– Сие верно, боярин, – так же холодно согласился Шуйский. – Ну а ныне пируют Темрюки да лапотники! А мы, Рюриковичи, – соль от соли, мы – корни и ветви великого древа, что зовется Русью, смотрим, терпим и ждем топора. Топора! – крикнул он и вдруг сник, будто что-то сломилось в нем – какая-то подпора, на которой все это время держались и его злость, и негодование, и трезвость. Борода его распласталась по кафтану, придавленная поникшей головой, руки упали куда-то вниз, будто вовсе оторвались, даже казалось, что он и сам вывалился из кафтана, оставив на шелковых завязках проймы только одну голову.
– Что же, пора и честь знать, – сказал, поднимаясь из-за стола, Челяднин. – Вам от заутрени – в поход, мне – в путь. Славной победы желаю вам, воеводы, и да убережет вас Бог от шальной беды! В живе и здраве хочу узреть вас всех на Москве. Тебе, князь, великая благодарность и низкий поклон за гостеприимство! – Челяднин низко поклонился князю Владимиру. – За честь, за величанье – також!
– Путь твой – на Ржев, боярин, – сказал Челяднину Владимир. – Не обмини Старицы… Заверни, поклонись матушке. Скажи, Бог дает, в здраве я и в печали о ней. Пусть молится обо мне… и женишке передай мой поклон, и слово любезное, и печаль мою о ней. Дело, скажи, ратное захватило меня. Поуправимся с крепостью – на рысях прискачу. И еще скажи: царской милостью я сполна одарен и с ним вместе на крепость иду. Пусть молятся обо мне!
5
Челяднин подъезжал к Москве по Можайской дороге. Ночь он отночевал в Звенигороде – у городского наместника, а утром чем свет отъехал на Москву.
С радостью и облегчением проводил его со своего подворья звенигородский наместник. Отлегло у него от души: думал, небось, загостится опальный боярин… Трусил наместник, берег свою голову. Знал он добрую старую заповедь: не лезь зернинка меж жернова, и жил по этой заповеди. Да Челяднин и не обиделся на негостеприимство наместника, подумал лишь с горечью, отъезжая: «Застращал царь-батюшка! Уж и гостеприимством боятся провинить!»
Покидая Звенигород, Челяднин прежде заехал в монастырь Савы Сторожевского – поклониться Спасу Нерукотворному…
Знаменит был сторожевский Спас. Написал его лет полтораста назад московский иконописец Андрей Рублев по слову самого Савы Сторожевского, основателя и первого настоятеля монастыря, и пошла с той поры по всей Русской земле молва о добром Спасе звенигородском, который одним своим взглядом приносит людям радость и утешение.
Впервые увидел Челяднин эту икону лет сорок назад, когда сопровождал отправившегося на моления по подмосковным монастырям великого князя Василия, отца нынешнего государя, и с тех пор уже ни разу не преминул Звенигорода, не преклонив головы перед поразившим его образом.
Могучей, не человеческой, но и не божественной добротой оживил глаза Спасу Рублев. Он смотрел с иконостаса пытливо и чутко, но спокойно, не осуждая и не грозя; как будто забыв о греховности рода человеческого, образумить и возродить который он был призван. Пытливость его тоже не была той страшной, всевидящей пытливостью, от которой сникают и потупляются души. Он допытывал мирно и ласково, как допытывают о боли, чтобы унять ее.
Все самое сокровенное тянулось из души на зов его чутких глаз: унималась ненависть, никло зло, исчезали обиды, сомнения, страхи, душа очищалась легко и свободно без долгих молитв и взываний. Глаза Спаса пророчили радость, большую и светлую радость – и в этом, в ином мире, которому он один был и провозвестник, и свидетель. Смятенный дух и сознание оживали пред его доброй и мудрой неколебимостью, и за ней, как за неразрушимой защитой, нарождалась в успокоенной и освобожденной душе собственная сила – сила восторжествовавшего добра.
Этим-то и влек к себе Челяднина рублевский Спас. Он никогда не видел в нем Бога, он видел в нем человека и приходил к нему как к человеку, порой будучи не в силах осенить себя перед ним крестом.
Последний раз он приходил к нему десять лег назад – изгнанником, отверженным… Всю свою злобу, ненависть, всю свою боль, тоску, отчаянье принес тогда он пред его глаза, и они помогли ему выстоять, помогли сохранить надежду и веру в свою правоту.
Теперь он принес к нему свои сомнения, разочарованность, уныние… О многом он хотел поведать Спасу, от многого избавиться с его помощью, во многом утвердиться.
…Все тот же чистый взгляд, уверенный, чуткий, и все та же нерасторжимость силы и добра в его спокойствии, над которым ничто не властвовало в этом мире.
Челяднин стоял замлевший, не чувствуя ни рук, ни ног… Он словно приподнялся над собой, оставив на холодных плитах храма всю тяжесть своей души, скопившуюся в ней за долгие годы изгнания. Сквозь жухлый мрак, лишь чуть разжиженный редкими свечами, на него смотрели глаза, которые теперь еще сильней, чем прежде, казались ему живыми.
За его спиной тихо молился монах, приведший его в храм. Челяднин повернулся к монаху, со страхом сказал:
– Отче, грешен я… Не могу пред ликом его крестом осенить себя.
Неожиданное признание Челяднина словно бы смутило монаха. Он прервал молитву, поднял глаза на икону, долго, неотрывно смотрел на нее.
За алтарем, под крутыми сводами, сырой холстиной висел мрак. Тишина и покой стерегли каждый шорох.
– Разумею тя, сын мой, – неожиданно громко промолвил монах, словно хотел отпугнуть эту прислушивающуюся тишину. – Став послушником, поперву також неволил себя… Грешною мыслию терзался, что – не Бог он… Ликом, истинно, он человек. Грешно крест пред человеком возносить. Но потом уразумел всей душой своей, аки доступно уразуметь пребывающему в мире оном, что он бо и есть истинный Бог, иже на небе и в душах наших.
– Просвети, отче!..
– Пред ликом его, сын мой, душа яко бы вновь нарождается: вся худь и скверна вон исторгаются из нее, остается добро, и свет, и радость велия.
– Истинно так, отче… Дух ободряется, будто к свету приходишь. Доведи, отче, сила какая в нем?
– Сам како мнишь?
– Мысли мои неясны, отче… Мню, мастера искусность тайная.
– Оные образа искусней писаны: колер паче леп, золото чище… Святой Петр, митрополит московский, писал многие иконы святые, видом чудные… Святой Феодор, архиепископ Ростовский, писал також многие иконы чудные… На Москве обретается его письма икона – деисус, у святого Николы на Болвановке. Доводилось тебе ее зреть?
– Доводилось, отче… Чудный образ!
– Вельми искусный, преславный Феофан, родом гречин, расписавший церкви каменны по градам заморским и русским… На Москве им расписана Благовещения святой богородицы, Святого Архангела Михаила да Рождества Богородицы. Стоял ты пред теми росписями, сын мой?
– Стоял, отче… Многажды стоял. В отрочество, в юность и в зрелость.
– Тако ли тя очищал вид их?
Другие электронные книги автора Валерий Васильевич Полуйко
Лета 7071




 4.6
4.6