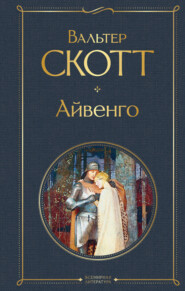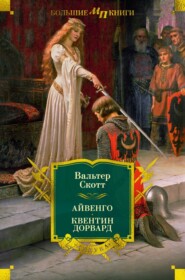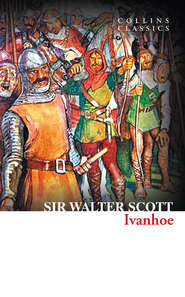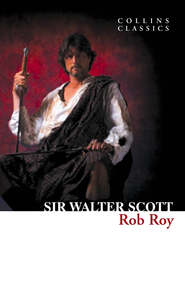По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Айвенго
Автор
Год написания книги
1819
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Только вот что я тебе скажу, – сказал он. – По моему мнению, мои земляки саксы слишком долго водились с норманнами и стали на их манер сочинять печальные песенки. Ну к чему добрый рыцарь уезжал из дому? Неужто он думал, что возлюбленная в его отсутствие не выйдет замуж за его соперника? Само собой разумеется, что она не обратила ни малейшего внимания на его серенаду, или как бишь это у вас называется, потому что его голос для нее – все равно что завыванье кота в канаве… А впрочем, сэр рыцарь, пью за твое здоровье и за успех всех верных любовников. Боюсь, что ты не таков, – прибавил он, видя, что рыцарь, почувствовавший шум в голове от беспрестанных возлияний, наполнил свою чашу не вином, а водой из кувшина.
– Как же, – сказал рыцарь, – не ты ли мне говорил, что это – вода из благословенного источника твоего покровителя, святого Дунстана?
– Так-то так, – отвечал отшельник, – он крестил в нем язычников целыми сотнями. Только я никогда не слыхивал, чтобы он сам пил эту воду. Всему свое место и свое назначение в этом мире. Святой Дунстан, верно, не хуже нашего знал привилегии веселого монаха.
С этими словами он взял арфу и позабавил гостя следующей примечательной песенкой, приспособив к ней известный хоровой мотив старинных английских песен дерри-даун. Эти песни, как предполагают, относились к далекой старине, более далекой, чем эпоха семи государств англов и саксов; их пели во времена друидов, прославляя жрецов, когда те уходили в лес за омелой.
Босоногий монах
Ты можешь объехать за несколько лет
Испанию и Византию, весь свет;
Кого б ты ни встретил в заморских краях,
Счастливее всех босоногий монах.
В честь дамы отправится рыцарь в поход,
А вечером раненный насмерть придет;
Его причащу; если ж дама в слезах,
Утешит ее босоногий монах.
Цари своих мантий величье не раз
Меняли на скромность монашеских ряс,
Но вдруг захотеть оказаться в царях
Не мог ни один босоногий монах.
Привольное лишь у монаха житье:
Чужое добро он сочтет за свое,
Монаха во всех принимают домах,
Везде отдохнет босоногий монах.
Ведь лакомства, что для него берегут,
Бывают обычно вкуснее всех блюд;
Всегда он обедает славно в гостях —
Почетнейший гость, босоногий монах.
За ужином пьет он отменнейший эль,
И мягкую стелют монаху постель;
Хозяина выгонят вон впопыхах,
Чтоб сладко поспал босоногий монах.
Да здравствует бедность одежды моей,
Власть римского папы и вера в чертей!
Рвать розы, не думать совсем о шипах
Могу только я, босоногий монах.
– Поистине, – сказал рыцарь, – спел ты хорошо и весело и прославил свое звание как следует. А кстати о черте, святой причетник: неужели ты не боишься, что он когда-нибудь пожалует к тебе как раз во время таких мирских развлечений?
– Мирских? Это я-то мирянин? – возмутился отшельник. – Да я служу в своей часовне верой и правдой две обедни каждый божий день, утреню и вечерню, часы, кануны, повечерия.
– Только не лунными ночами, когда можно поохотиться за дичью, – заметил гость.
– Exceptis excipiendis,[17 - За исключением того, что должно быть исключено (лат.).] – отвечал отшельник, – как наш старый аббат научил меня отвечать, в случае если дерзновенный мирянин вздумает расспрашивать, все ли канонические правила я исполняю в точности.
– Это так, святой отец, – сказал рыцарь, – но черт подстерегает нас именно за исключительными занятиями. Ты сам знаешь, что он всюду бродит, аки лев рыкающий.
– Пусть зарычит, коли посмеет, – сказал монах. – От моей веревки он завизжит, как визжал от кочерги святого Дунстана. Я сроду не боялся ни одного человека – не боюсь и черта с его приспешниками. Молитвами святого Дунстана, святого Дубрика, святых Винибальда и Винифреда, святых Суиберта и Уиллика, а также святого Фомы Кентского, не считая моих собственных малых заслуг перед богом, я ни во что не ставлю чертей, как хвостатых, так и бесхвостых. Но по секрету скажу вам, друг мой, что никогда не упоминаю о таких предметах до утренней молитвы.
Он перевел разговор на другое, и попойка продолжалась на славу. Уже много песен было спето обоими, как вдруг их веселую пирушку нарушил сильнейший стук в дверь лачуги.
Чем была вызвана эта помеха, мы сможем объяснить только тогда, когда возвратимся к другим действующим лицам нашего рассказа, ибо, по примеру старика Ариосто, мы не любим иметь дело только с одним каким-нибудь героем, охотно меняя и персонажей, и обстановку нашей драмы.
Глава XVIII
– Вперед! Пойдем мы долом и лощиной,
Где молодой олень бежит за ланью,
Где дуб широкий крепкими ветвями
Свет не пускает в просеку лесную.
Вперед! Ведь хорошо идти по тропам,
Пока на троне радостное солнце;
Пусть станет мрачным и небезопасным
В обманчивом мерцании Дианы.
«Эттрикский лес»
Когда Седрик Сакс увидел, как сын его упал без чувств на ристалище в Ашби, первым его побуждением было послать своих людей позаботиться о нем, но эти слова застряли у него в горле.
В присутствии такого общества он не мог заставить себя признать сына, которого изгнал из дома и лишил наследства. Однако он приказал Освальду не выпускать его из виду и с помощью двух крепостных слуг перенести в Ашби, как только толпа разойдется. Но Освальд опоздал с исполнением этого распоряжения: толпа разошлась, а рыцаря уже нигде не было видно.
Напрасно кравчий Седрика озирался по сторонам, отыскивая, куда девался его молодой хозяин; он видел кровавое пятно на том месте, где лежал юный рыцарь, но самого рыцаря не видел: словно волшебницы унесли его куда-то. Может быть, Освальд именно так и объяснил бы себе исчезновение Айвенго (потому что саксы были крайне суеверны), если бы случайно не бросилась ему в глаза фигура человека, одетого оруженосцем, в котором он признал своего товарища Гурта. В отчаянии от внезапного исчезновения своего хозяина бывший свинопас разыскивал его повсюду, позабыв всякую осторожность и подвергая себя нешуточной опасности. Освальд счел своим долгом задержать Гурта, как беглого раба, чью судьбу должен был решить сам хозяин.
Кравчий продолжал расспрашивать всех встречных, не знает ли кто, куда делся Айвенго. В конце концов ему удалось узнать, что несколько хорошо одетых слуг бережно положили раненого рыцаря на носилки, принадлежавшие одной из присутствовавших на турнире дам, и сразу же унесли за ограду. Получив эти сведения, Освальд решил воротиться к своему хозяину за дальнейшими приказаниями и увел с собой Гурта, считая его беглецом.
Седрик Сакс был во власти мучительных и мрачных предчувствий, вызванных раной сына. Его патриотический стоицизм сакса боролся с отцовскими чувствами. Но природа все-таки взяла свое. Однако стоило ему узнать, что Айвенго, по-видимому, находится на попечении друзей, как чувства оскорбленной гордости и негодования, вызванные тем, что он называл «сыновней непочтительностью Уилфреда», снова взяли верх над родительской привязанностью.
– Пускай идет своей дорогой, – сказал он. – Пусть те и лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, выдуманные норманскими рыцарями, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой – добрым старым оружием нашей родины.
– Если для поддержания чести и славы своих предков, – сказала Ровена, присутствовавшая здесь же, – достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, если достаточно быть отважнейшим из отважных и благороднейшим из благородных, то кто же, кроме его отца, станет отрицать…
– Молчите, леди Ровена! Я не хочу вас слушать! Приготовьтесь к вечернему собранию у принца. На сей раз нас приглашают с таким небывалым почетом и любезностью, о каких саксы и не слыхивали с рокового дня битвы при Гастингсе. Я отправлюсь туда немедленно, хотя бы для того, чтобы показать гордым норманнам, как мало меня волнует участь сына, даром что он победил сегодня их храбрейших воинов.
– А я, – сказала леди Ровена, – туда не поеду, и, прошу вас, остерегайтесь, потому что те качества, которые вы считаете твердостью и мужеством, можно принять за жестокосердие.
– Так оставайся же дома, неблагодарная! – отвечал Седрик. – Это у тебя жестокое сердце, если ты жертвуешь благом несчастного, притесняемого народа в угоду своему пустому и безответному чувству! Я найду благородного Ательстана и с ним отправлюсь на пир к принцу Джону Анжуйскому.
– Как же, – сказал рыцарь, – не ты ли мне говорил, что это – вода из благословенного источника твоего покровителя, святого Дунстана?
– Так-то так, – отвечал отшельник, – он крестил в нем язычников целыми сотнями. Только я никогда не слыхивал, чтобы он сам пил эту воду. Всему свое место и свое назначение в этом мире. Святой Дунстан, верно, не хуже нашего знал привилегии веселого монаха.
С этими словами он взял арфу и позабавил гостя следующей примечательной песенкой, приспособив к ней известный хоровой мотив старинных английских песен дерри-даун. Эти песни, как предполагают, относились к далекой старине, более далекой, чем эпоха семи государств англов и саксов; их пели во времена друидов, прославляя жрецов, когда те уходили в лес за омелой.
Босоногий монах
Ты можешь объехать за несколько лет
Испанию и Византию, весь свет;
Кого б ты ни встретил в заморских краях,
Счастливее всех босоногий монах.
В честь дамы отправится рыцарь в поход,
А вечером раненный насмерть придет;
Его причащу; если ж дама в слезах,
Утешит ее босоногий монах.
Цари своих мантий величье не раз
Меняли на скромность монашеских ряс,
Но вдруг захотеть оказаться в царях
Не мог ни один босоногий монах.
Привольное лишь у монаха житье:
Чужое добро он сочтет за свое,
Монаха во всех принимают домах,
Везде отдохнет босоногий монах.
Ведь лакомства, что для него берегут,
Бывают обычно вкуснее всех блюд;
Всегда он обедает славно в гостях —
Почетнейший гость, босоногий монах.
За ужином пьет он отменнейший эль,
И мягкую стелют монаху постель;
Хозяина выгонят вон впопыхах,
Чтоб сладко поспал босоногий монах.
Да здравствует бедность одежды моей,
Власть римского папы и вера в чертей!
Рвать розы, не думать совсем о шипах
Могу только я, босоногий монах.
– Поистине, – сказал рыцарь, – спел ты хорошо и весело и прославил свое звание как следует. А кстати о черте, святой причетник: неужели ты не боишься, что он когда-нибудь пожалует к тебе как раз во время таких мирских развлечений?
– Мирских? Это я-то мирянин? – возмутился отшельник. – Да я служу в своей часовне верой и правдой две обедни каждый божий день, утреню и вечерню, часы, кануны, повечерия.
– Только не лунными ночами, когда можно поохотиться за дичью, – заметил гость.
– Exceptis excipiendis,[17 - За исключением того, что должно быть исключено (лат.).] – отвечал отшельник, – как наш старый аббат научил меня отвечать, в случае если дерзновенный мирянин вздумает расспрашивать, все ли канонические правила я исполняю в точности.
– Это так, святой отец, – сказал рыцарь, – но черт подстерегает нас именно за исключительными занятиями. Ты сам знаешь, что он всюду бродит, аки лев рыкающий.
– Пусть зарычит, коли посмеет, – сказал монах. – От моей веревки он завизжит, как визжал от кочерги святого Дунстана. Я сроду не боялся ни одного человека – не боюсь и черта с его приспешниками. Молитвами святого Дунстана, святого Дубрика, святых Винибальда и Винифреда, святых Суиберта и Уиллика, а также святого Фомы Кентского, не считая моих собственных малых заслуг перед богом, я ни во что не ставлю чертей, как хвостатых, так и бесхвостых. Но по секрету скажу вам, друг мой, что никогда не упоминаю о таких предметах до утренней молитвы.
Он перевел разговор на другое, и попойка продолжалась на славу. Уже много песен было спето обоими, как вдруг их веселую пирушку нарушил сильнейший стук в дверь лачуги.
Чем была вызвана эта помеха, мы сможем объяснить только тогда, когда возвратимся к другим действующим лицам нашего рассказа, ибо, по примеру старика Ариосто, мы не любим иметь дело только с одним каким-нибудь героем, охотно меняя и персонажей, и обстановку нашей драмы.
Глава XVIII
– Вперед! Пойдем мы долом и лощиной,
Где молодой олень бежит за ланью,
Где дуб широкий крепкими ветвями
Свет не пускает в просеку лесную.
Вперед! Ведь хорошо идти по тропам,
Пока на троне радостное солнце;
Пусть станет мрачным и небезопасным
В обманчивом мерцании Дианы.
«Эттрикский лес»
Когда Седрик Сакс увидел, как сын его упал без чувств на ристалище в Ашби, первым его побуждением было послать своих людей позаботиться о нем, но эти слова застряли у него в горле.
В присутствии такого общества он не мог заставить себя признать сына, которого изгнал из дома и лишил наследства. Однако он приказал Освальду не выпускать его из виду и с помощью двух крепостных слуг перенести в Ашби, как только толпа разойдется. Но Освальд опоздал с исполнением этого распоряжения: толпа разошлась, а рыцаря уже нигде не было видно.
Напрасно кравчий Седрика озирался по сторонам, отыскивая, куда девался его молодой хозяин; он видел кровавое пятно на том месте, где лежал юный рыцарь, но самого рыцаря не видел: словно волшебницы унесли его куда-то. Может быть, Освальд именно так и объяснил бы себе исчезновение Айвенго (потому что саксы были крайне суеверны), если бы случайно не бросилась ему в глаза фигура человека, одетого оруженосцем, в котором он признал своего товарища Гурта. В отчаянии от внезапного исчезновения своего хозяина бывший свинопас разыскивал его повсюду, позабыв всякую осторожность и подвергая себя нешуточной опасности. Освальд счел своим долгом задержать Гурта, как беглого раба, чью судьбу должен был решить сам хозяин.
Кравчий продолжал расспрашивать всех встречных, не знает ли кто, куда делся Айвенго. В конце концов ему удалось узнать, что несколько хорошо одетых слуг бережно положили раненого рыцаря на носилки, принадлежавшие одной из присутствовавших на турнире дам, и сразу же унесли за ограду. Получив эти сведения, Освальд решил воротиться к своему хозяину за дальнейшими приказаниями и увел с собой Гурта, считая его беглецом.
Седрик Сакс был во власти мучительных и мрачных предчувствий, вызванных раной сына. Его патриотический стоицизм сакса боролся с отцовскими чувствами. Но природа все-таки взяла свое. Однако стоило ему узнать, что Айвенго, по-видимому, находится на попечении друзей, как чувства оскорбленной гордости и негодования, вызванные тем, что он называл «сыновней непочтительностью Уилфреда», снова взяли верх над родительской привязанностью.
– Пускай идет своей дорогой, – сказал он. – Пусть те и лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, выдуманные норманскими рыцарями, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой – добрым старым оружием нашей родины.
– Если для поддержания чести и славы своих предков, – сказала Ровена, присутствовавшая здесь же, – достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, если достаточно быть отважнейшим из отважных и благороднейшим из благородных, то кто же, кроме его отца, станет отрицать…
– Молчите, леди Ровена! Я не хочу вас слушать! Приготовьтесь к вечернему собранию у принца. На сей раз нас приглашают с таким небывалым почетом и любезностью, о каких саксы и не слыхивали с рокового дня битвы при Гастингсе. Я отправлюсь туда немедленно, хотя бы для того, чтобы показать гордым норманнам, как мало меня волнует участь сына, даром что он победил сегодня их храбрейших воинов.
– А я, – сказала леди Ровена, – туда не поеду, и, прошу вас, остерегайтесь, потому что те качества, которые вы считаете твердостью и мужеством, можно принять за жестокосердие.
– Так оставайся же дома, неблагодарная! – отвечал Седрик. – Это у тебя жестокое сердце, если ты жертвуешь благом несчастного, притесняемого народа в угоду своему пустому и безответному чувству! Я найду благородного Ательстана и с ним отправлюсь на пир к принцу Джону Анжуйскому.