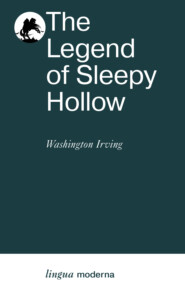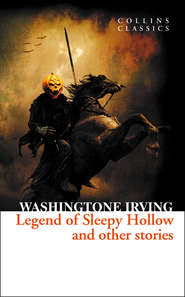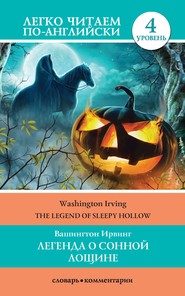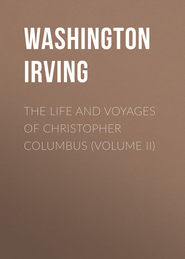По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История Нью-Йорка
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот, каким бы образом ни захватила впервые страну эта колония шведских бродяг, несомненно то, что в 1638 году они основали крепость, и Минневитс, в соответствии с бесцеремонным обыкновением своих современников, объявил себя губернатором всей прилегающей страны, присвоив ей название провинции НОВАЯ ШВЕЦИЯ.[265 - Новая Швеция – под видом шведской колонии на берегу Делавэра Ирвинг изображает южан. Сравни распространенное мнение американцев-северян о южанах («мэрилендцах») в конце этой же главы.] Едва это известие дошло до слуха раздражительного Вильгельмуса, как он, будучи подлинно пылким вождем, немедленно впал в ярость и, созвав свой совет, задал шведам здоровенную трепку в речи, которая со времен памятного спора между Десятиштанным и Крепкоштанником была самой длинной из всех, когда-либо произнесенных в колонии. Дав таким образом выход первому взрыву негодования, он прибег затем к излюбленной им мере и в первый же год своего правления отправил свежеиспеченное послание; в нем Петеру Минневитсу сообщалось, что вся земля, примыкающая к Южной реке, находилась с незапамятных времен во владении голландских колонистов, так как «она была застроена их крепостями и право на нее было скреплено их кровью».
Упоминание о крови в последней фразе могло бы навести на мысль об ужасной войне и кровопролитии; какое облегчение должны мы испытать, узнав, что эта фраза относится просто к драке, во время которой индейцы убили полдюжины голландцев, когда те милостиво пытались основать колонию и распространить цивилизацию. Отсюда можно видеть, что Вильям Кифт, хотя и был очень низеньким человеком, находил удовольствие в высоких словах и был весьма склонен к гиперболе – достохвальной риторической фигуре, особенно охотно применяемой нашими маленькими великими людьми. Фигура эта сослужила неоценимую службу многим людям его сорта и способствовала раздуванию величия многих чрезвычайно самонадеянных, но пустоголовых городских мэров. Здесь я не могу удержаться, чтобы не заметить, сколь многим обязана моя возлюбленная страна этой самой фигуре гиперболы за услуги, оказанные некоторым из ее величайших людей – государственным деятелям, ораторам, гражданским чиновникам и духовным пастырям, которые с помощью высокопарных слов, распространенных периодов и многоречивых теорий держатся на поверхности общества, как неумелые пловцы держатся на воде с помощью надутых воздухом пузырей.
Послание, направленное против Минневитса, заканчивалось предписанием самозванному губернатору и его шайке шведских искателей приключений немедленно покинуть страну под страхом навлечь на себя величайшее неудовольствие и неизбежное мщение могущественного правительства Новых Нидерландов. Однако эта «строгая мера» произвела ничуть не большее действие, чем предыдущие угрозы, обращенные к янки. Шведы решительно не желали покидать земли, которыми они завладели, и пока что дело оставалось in statu quo.[266 - В прежнем положении (лат.).]
Примириться с таким наглым упорством шведов было бы несовместимо с доблестным характером Вильгельмуса Кифта; однако у маленького человека дел было в это время по горло, и по причине то одной неприятности, то другой, он не имел ни минуты покоя.
Существует определенный сорт неутомимых законодателей, настолько искусных в своем ремесле, что у них на наковальне всегда бывает по сотне поковок, каждой из которых надлежит немедленно заняться; им, следовательно, приходится все время проявлять великую изобретательность и изворотливость, пока они ставят заплаты на общественное благосостояние и подбивают подметки на государственные дела, выполняя это так, что вместо одной зачиненной дыры появляются девять новых, и затыкают трещины и щели всем, что попадется под руку, подобно янки, засовывавшим, как я упоминал выше, старую одежду в разбитые окна. К этому роду государственных деятелей принадлежал Вильям Упрямый. И если бы только господь благословил его талантами, равными его рвению, или если бы его рвение хоть сколько-нибудь обуздывалось рассудительностью, то почти не приходится сомневаться в том, что он был бы самым великим из всех известных нам губернаторов его роста, за исключением одного только прославленного губернатора острова Баратарии.
Огромный недостаток политики Вильгельмуса Кифта заключался в том, что, хотя не было человека, готового с большим рвением взяться за дело в час крайней необходимости, он, однако, так заботился о сохранности народного достояния, что терпеливо выжидал, пока враг сам разобьет себе голову. Другими словами, какие бы предосторожности для обеспечения государственной безопасности он ни принимал, он так старался, чтобы они обошлись подешевле, что они неизменно оказывались бесполезными. Все это было отдаленным последствием глубокого образования, полученного им в Гааге; набравшись там обрывков учености, он потом; всю жизнь усердно зубрил оглавления, постоянно роясь в книгах, но ничего не изучал досконально; в результате в его черепной коробке происходило брожение выжимок из всякого рода авторов. При одном из таких исследований титульных страниц он, к несчастью, наткнулся на очень важное для политиков каббалистическое слово, которое с обычной для себя легкостью немедленно включил в свою великую систему управления – к непоправимому ущербу для провинции Новые Нидерланды, к обольщению ее честных жителей и к вечному заблуждению всех правителей, склонных заниматься экспериментами.
Тщетно с усердием изучал я теургию халдеев, каббалу евреев, некромантию арабов, магию персов, фокус-покусы англичан, колдовство янки, шаманство индейцев, пытаясь установить, где маленький человек впервые узрел это страшное слово. Ни «Сефер Иоцира», знаменитая каббалистическая книга, приписываемая патриарху Аврааму, ни страницы «Зогара»,[267 - «Сефер Иоцира», «Зогар» – еврейские религиозно-мистические книги, содержащие доктрины каббалистики, средневекового учения о мистической интерпретации Библии. Автором «Зогара» считается Симон бен-Иохаи, живший во II в.] содержащие тайны каббалы, описанные ученым равином Симоном бен-Иохаи, не пролили никакого света на занимавшие меня вопросы. Ни малейшей пользы не принесли мне и утомительные розыски в «Шем-га-Мефораше»[268 - Шем-га-Мефораш – талмудическое название бога. Это священное имя употреблялось для обозначения понятия, что есть одно настоящее слово из четырех букв (тетраграмматон) для имени бога, но запрещенное к произношению.] Вениамина, странствующего еврея, хотя этот труд помог Давиду Эльму совершить десятидневное путешествие за одни сутки. Не удалось мне также установить хоть какую-нибудь связь с тетраграммой, или священным именем из четырех букв, самым заветным словом еврейской каббалы, которое представляет собой высшую неисповедимую и непередаваемую тайну и буквы которого «йод-хе-ван-хе», украденные язычниками, составили их великое имя Иове, то есть Юпитер. Короче говоря, во всех моих каббалистических, теургических, некромантических, магических и астрологических изысканиях, начиная от «тетрактиса»[269 - Татрактис – священный символ веры пифагорийцев, одно из математических понятий в теории чисел Пифагора.] Пифагора и кончая неудобопонятными трудами Бреслау[270 - Бреслау – очевидно, имеется в виду немецкий писатель Фридрих фон Логау (1604–1655), епископ Бреслау, сочинения которого отличаются сложностью языка.] и матушки Банч,[271 - Матушка Банч – содержательница лондонской пивной, популярной в XVI в. Ее имя значится на титульных листах многих сборников шуток и анекдотов XVII в.] я не обнаружил никакого другого слова, достаточно могущественного, чтобы противодействовать ему.
Не буду держать читателей в недоумении: слово, которое столь удивительным образом остановило на себе внимание Вильяма Упрямого и которое, будучи написано готическими буквами, имело особенно мрачный и зловещий вид, в переводе означает не что иное, как экономия – волшебное слово, в результате постоянного употребления и частого упоминания переставшее казаться нам страшным, но обладающее столь же ужасной властью, как всякое колдовское заклинание.
Произнесенное в национальном собрании, слово «экономия» производит немедленное действие, запирая сердца, затемняя умы, затягивая шнурки кошельков и застегивая брючные карманы всех философов-законодателей. Не менее изумительно его действие на зрение; оно вызывает сокращение сетчатки, затемнение хрусталика, вязкость стекловидного тела, разжижение водянистой влаги, затвердение tunica sclerotica[272 - Плотная оболочка глаза (лат.).] и выпуклость роговицы; в результате орган зрения теряет свою силу и ясность, и несчастный больной становится близоруким, или попросту говоря, подслеповатым. Он различает только сумму немедленных затрат и не способен заглянуть вперед и рассматривать их в связи с конечной целью, которая должна быть достигнута. «Так что (мы цитируем слова красноречивого Берка[273 - Берк, Эдмунд (1729–1797) – английский публицист и политический деятель, выступавший против идей французской революции.]) терновник у него под носом превосходит величиной дуб, находящийся на расстоянии пятисот ярдов». Таково мгновенное действие этого слова, а конечные результаты еще более изумительны. Его магическое влияние заставляет семидесятичетырехпушечные линейные корабли съежится во фрегаты, фрегаты в корветы, корветы в канонерки. Как беззащитный флот Энея под командованием Венеры-покровительницы превратился в морских нимф и спасся, нырнув в воду, так и могущественный военный флот Америки с помощью каббалистического слова «экономия» превращается в мелкие суда и укрывается в мельничном пруду!
Это всемогущее слово, служившее пробным камнем политики Вильгельмуса Упрямого, сразу разъясняет всю облюбованную им систему посланий, торжественных заявлений, пустых угроз, ветряных мельниц, трубачей и бумажной войны; действие этого слова мы можем обнаружить на эскадре, вооруженной им в 1642 году в момент великой ярости и состоявшей из двух корветов с тридцатью людьми под командой мингера Яна Янсена Алпендама – адмирала флота и главнокомандующего военно-морскими силами. Эта грозная экспедиция, с которой можно сравнить лишь некоторые отважные плавания нашего младенческого флота, двинулась по заливу и вверх по Саунду с целью выгнать мэрилендцев с берегов Скулкилла, недавно захваченных ими и считавшихся частью провинции Новые Нидерланды; ведь в ту пору наша младенческая колония находилась, видимо, в завидном положении, к которому стремятся честолюбивые народы, то есть ее правительство, владея обширными землями, пользовалось только частью их, а в отношении большей части вынуждено было постоянно вступать в споры.
Адмирал Ян Янсен Алпендам был человек очень пылкий и храбрый и ничуть не страшился врагов, хотя про них и говорили, что это воинственные люди из породы гигантов, питающиеся маисовыми лепешками и копченой свининой, пьющие мятный грог и пальмовую водку и чрезвычайно искусные в кулачном бою, кусании, выбивании глаз, вымазывании смолой и вываливании в перьях[274 - …вымазывании смолой и вываливании в перьях… – американский национальный обычай расправы с противниками, приобретший особую популярность в годы войны за независимость США.] и в разных других атлетических упражнениях, заимствованных ими от своих сородичей-виргинцев, на которых они всегда были очень похожи. Несмотря на все эти столь пугающие описания, адмирал отважно вступил со своим флотом в Скулкилл и вполне благополучно, без всякого сопротивления достиг места назначения.
Там он обрушил на врага пламенную речь на нижнеголландском языке, которую предусмотрительный Кифт заранее сунул ему в карман; он вежливо начал ее с того, что обозвал мэрилендцев шайкой ленивых, неотесанных, вечно пьяных выскочек, любителей петушиных боев и конских скачек, надсмотрщиков над рабами, завсегдатаев питейных домов, нарушителей святости воскресного дня, мулатского отродья, а закончил приказанием немедленно покинуть страну. На это они весьма лаконично ответили без всяких обиняков (что для шведов было совершенно естественно): «Иди ты ко всем чертям».
На такой ответ Ян Янсен Алпендам, как и Вильгельмус Кифт, не рассчитывал. Видя себя совершенно неподготовленным к тому, чтобы на столь грубый отпор ответить соответствующими военными действиями, он, подобно весьма почтенному адмиралу, возглавлявшему одну современную английскую экспедицию, решил, что умней всего будет вернуться домой и представить донесение о ходе дела. Итак, он двинулся назад в Новый Амстердам, где его приняли с великими почестями и провозгласили образцовым командиром, так как он выполнил опаснейшее предприятие с ничтожными затратами для государственной казны, не потеряв ни одного человека! Его единодушно провозгласили спасителем отечества (звание, щедро жалуемое всем великим людям); два его корвета, выполнившие свой долг, были разоружены (или вытащены на берег) в бухточке, ныне называемой Олбани-Бейзн, где они мирно гнили, лежа в тине. Чтобы обессмертить имя отважного адмирала, новоамстердамцы воздвигли (по подписке) на вершине Флаттн-Баррак-Хилл[275 - Испорченное Варлетс-берг или Варлетс-Хилл, названное так по имени некоего Варлета, жившего на этом холме в раннюю эпоху существования поселка. – Издатель.] великолепный дощатый памятник, который простоял целых три года, а затем развалился на части и был разобран на дрова.
ГЛАВА V
Как Вильям Упрямый обогатил Провинцию множеством никуда не годных законов и стал покровителем стряпчих и помощников пристава. Как он взялся за спасение народа от ужасного зла и как его чуть было не удушили дымом за его старания. Как народ в результате его наставлений стал чрезвычайно просвещенным и несчастным, а также о всяких других вещах, которые выяснятся при чтении.
Среди многочисленных остатков и обломков возвышенной мудрости, уносимых потоком времени, начиная с почтенной древности, и тщательно вылавливаемых теми скромными, но трудолюбивыми людьми, которые скитаются вдоль берегов литературы, мы находим одно благоразумное предписание Харондаса, локрского законодателя. Заботясь о том, чтобы предохранить древние законы своего государства от добавлений и улучшений глубокомысленных «провинциальных представителей» или назойливых претендентов на популярность, он издал указ, по которому всякий, предлагающий новый закон, делал это с петлей на шее, чтобы в случае отклонения проекта его немедленно вздергивали. На том дело и кончалось.
Это спасительное правило оказало такое действие, что в течение двухсот с лишним лет произошло лишь одно небольшое изменение в уголовном кодексе и все племя стряпчих умерло с голоду из-за отсутствия работы. В результате локрийцы, не защищенные тяжелым грузом превосходных законов и не охраняемые постоянной армией ходатаев по делам и судебных приставов, жили в любви и согласии и были так счастливы, что о них почти не упоминается во всей греческой истории, ибо хорошо известно, что только несчастные, задорливые буйные народы шумят на весь мир.
Неплохо было бы для Вильяма Упрямого, если бы он в поисках «всеобъемлющих познаний», на свое счастье, наткнулся на предосторожность доброго Харондаса. Но он, напротив, полагал, что истый законодатель обязан умножать число законов и охранять собственность, личность и нравственность подданных, окружая их своего рода волчьими ямами, кладя у них на пути ружья с привязанными к взведенным куркам проволоками и огораживая даже тихие уединенные тропинки частной жизни колючей изгородью, так что человек едва может пошевелиться, чтобы не наткнуться на какое-нибудь из этих пагубных ограждений. Итак, он все время придумывал мелкие законы для каждого то и дело возникающего мелкого нарушения, пока со временем законов не стало так много, что их уже нельзя было запомнить; подобно законам некоторых современных законодателей, они превратились в мертвую букву, иногда оживавшую для того, чтобы подавить чью-либо личность или поймать в ловушку неопытного преступника.
В результате появились суды для рассмотрения мелких дел, где закон применялся почти столь же мудро и беспристрастно, как и в нынешних высоких трибуналах – полицейских и мировых судах. Обычно становились на сторону истца, ибо он был постоянным клиентом и увеличивал оборот предприятия. На преступления богатых благоразумно смотрели сквозь пальцы, чтобы не задеть их друзей; но бдительных бургомистров никогда нельзя было упрекнуть в том, что они дали возможность остаться безнаказанным пороку в гнусных лохмотьях бедности.
Примерно к этому времени мы можем отнести введение смертной казни; великолепная виселица была сооружена на берегу, около того места, где теперь находится лестница Уайтхолла, чуть к востоку от батареи. Рядом соорудили еще одну виселицу, очень странного, безобразного и ни на что не похожего вида; однако изобретательный Вильям Кифт ее очень ценил, так как она служила для наказания, придуманного всецело им самим.[276 - Обе виселицы, упомянутые выше нашим автором, можно увидеть на гравюре Юстуса Данкера, предпосланной нами настоящему труду. – Издатель.]
По высоте она ничуть не уступала виселице Амана, столь известного персонажа библейской истории; но чудо выдумки заключалось в том, что преступника, вместо того, чтобы вешать за шею, в соответствии с почтенным обычаем, вздергивали за пояс штанов, и он целый час висел, болтаясь и барахтаясь между небом и землей – к безмерному удовольствию и, несомненно, к вящему назиданию толпы досточтимых горожан, всегда присутствующих на такого рода зрелищах.
Трудно представить себе, как хихикал маленький губернатор при виде презренных бродяг и неисправимых нищих, подвешенных за штаны и выделывающих забавные прыжки в воздухе. Для таких случаев у него были заготовлены тысячи шуток и веселых острот. Он называл их своими баловнями, своей дичью, людьми высокого полета, орлами с распростертыми крыльями, соколами, пугалами и, наконец, висельниками; последнее остроумное название, которым первоначально пользовались только по отношению к почтенным гражданам, вздумавшим насладиться свежим воздухом таким странным образом, стало затем простонародным выражением, обозначавшим любого кандидата на законное возвышение. Кроме того это наказание, если можно верить некоторым ученым этимологам, впервые навело на мысль о создании своеобразной сбруи или подтяжек,[277 - … подтяжек… – английский каламбур: gallows – виселица, gallowses – помочи, подтяжки.] посредством которых наши праотцы предохраняли от сползания свои многочисленные штаны и которые недавно снова воскресли и продолжают употребляться в наши дни.
Таковы были замечательные реформы Вильяма Кифта в области уголовного законодательства; не меньшего восхищения достоин его гражданский кодекс, и я очень скорблю, что размеры моего труда не позволяют мне остановиться на обоих с той исчерпывающей полнотой, какой они заслуживают. Достаточно будет сказать, что через некоторое время благодетельное действие бесчисленных законов стало очевидным. Вскоре, чтобы их толковать и согласовывать, понадобилось иметь определенную группу людей. Так появились различные ходатаи по делам, чьими неусыпными заботами вся община немедленно перессорилась.
Ни за что на свете я не хотел бы, чтобы обо мне подумали, будто я пытаюсь внушить что-либо оскорбительное в отношении юридической профессии или ее достойных представителей. Я хорошо знаю, что в нашем старинном городе живет неисчислимое множество почтенных джентльменов, вступивших в этот заслуживающий всяческого уважения орден не из-за низкой любви к грязному стяжательству или из-за себялюбивой жажды славы, а исключительно из пылкого стремления способствовать правильному отправлению правосудия и из благородной бескорыстной заботы о пользе своих сограждан! Скорей я бросил бы мое верное перо в огонь и навсегда заткнул пробкой бутылку с чернилами (а это худшее наказание, какое заблаживший автор может наложить на себя), чем хотя бы намеком посягнул на достоинство этого поистине благодетельного разряда граждан. Напротив, я имею в виду лишь ту шайку проходимцев, которых в последние злосчастные годы стало так много, которые позорят свою корпорацию, как позорили трусливые корнуэльские рыцари[278 - Корнуэльские рыцари – имеются в виду рыцари трусливого и вероломного короля Марка в «Смерти Артура» (1470) Томаса Мэлори.] благородное рыцарское звание, которые наживаются с помощью крючкотворства, низких уловок и интриг и, подобно червям, кишат сильней всего там, где сильней всего разложение.
Ничто столь быстро не пробуждает дурные страсти, как возможность легкого заработка. Суды никогда не были бы так завалены мелкими кляузными и гнусными делами, если бы их не наводняли толпы сутяг-стряпчих. Они исподтишка разжигают страсти низших и более невежественных слоев населения, которые, словно бедность сама по себе не является достаточным несчастьем, всегда готовы усугубить ее горечью тяжб. Эти ходатаи по делам играют в правосудии ту же роль, что шарлатаны в медицине, способствующие возникновению болезни для того, чтобы заработать на излечении, и замедляющие излечение, чтобы увеличить плату. В то время как одни разрушают здоровье, вторые опустошают кошелек. Замечено также, что больной, побывавши однажды в руках у шарлатана, после этого вечно пичкает себя микстурами и отравляет самыми верными снадобьями. Так и невежественный человек, спутавшийся однажды с законом при содействии одного из этих шарлатанов, затем всегда ссорится со своими соседями и разоряется на выигранных тяжбах. Мои читатели простят мне это отступление, которым я по неосторожности увлекся, но я не мог удержаться, чтобы не дать хладнокровного, непредвзятого описания слишком распространенной в нашем превосходном городе мерзости, результаты которой я, по несчастью, испытал на собственной шкуре, чуть не разорившись из-за судебного дела, несправедливо решенного не в мою пользу; мое разорение было довершено другим делом, решенным в мою пользу. Невозместимой потерей для потомства следует считать то обстоятельство, что из бесчисленных законов, изданных Вильямом Упрямым, которые, несомненно, составляли кодекс, вряд ли уступающий кодексам Солона, Ликурга или Санчо Пансы, только немногие дошли до наших дней; самый важный из них – это закон, придуманный в недобрый день и запрещавший всеобщую привычку курить. Необходимость его была математически доказана тем, что курение не только тяжелый налог на народный карман, но и невероятный пожиратель времени, отвратительный покровитель лени и, разумеется, смертельный яд для народной нравственности. Злосчастный Кифт! Живи он в наш самый просвещенный и клеветнический век и попытайся ниспровергнуть неоценимую свободу печати, он не мог бы нанести более чувствительный удар миллионам людей.
Жители Нового Амстердама пришли в такое сильное волнение, какое только было возможно при их врожденной степенности; толпа мятежных граждан имела даже смелость окружить дом маленького губернатора, и, решительно расположившись перед ним, как осаждающая армия перед крепостью, они все как один принялись усердно и решительно курить, ясно показывая тем свое намерение обкуривать его дымом вонючего табака, пока он не согласится на их требование. Великолепный особняк губернатора был уже окутан темными облаками, и могущественный маленький человек чуть не задохнулся в своей норе, когда, вспомнив, что не было ни одного примера, чтобы какой-либо великий человек древности погиб столь подлым образом (случай с Плинием Старшим[279 - Плиний – см. примечание 14, гл. V, книга первая.] был единственным, представлявшим некоторое сходство), он почел за благо пойти на уступки и согласился на требования толпы при условии, что она пощадит его жизнь, немедленно погасив трубки.
В результате перемирия он, хотя и разрешил впредь курение табака, но запретил отличные длинные трубки, преобладавшие в дни Воутера Ван-Твиллера и неразлучные с благодушием, спокойствием и степенностью манер; вместо них он ввел в употребление маленькие, каверзные короткие трубки длиной в два дюйма, которые, по его словам, можно держать в углу рта и засунуть за ленту шляпы, чтобы они не мешали заниматься делом. Представь себе, однако, о, читатель, какие это имело плачевные последствия. Дым отвратительных маленьких трубок, постоянно поднимавшийся облаком у носа, проникал в мозжечок и затуманивал его, высушивал всю живительную влагу в мозгу и делал людей такими же ипохондриками и упрямцами, каким был их прославленный маленький губернатор. Даже больше, из бодрых толстяков они, подобно нашим честным голландским фермерам, курящим короткие трубки, превратились в костлявых, прокопченных дымом и выдубленных созданий.
В самом деле, наблюдательный автор стайвесантской рукописи отметил, что за время правления Вильгельмуса Кифта характер жителей Нового Амстердама претерпел существенные изменения и они стали очень сварливыми и склонными к мятежу. Постоянная раздражительность, в которую впал маленький губернатор из-за грабительских набегов на его рубежи, и несчастная склонность к экспериментам и новшествам были причиной того, что он держал свой совет в вечном беспокойстве; а так как совет является по отношению к населению в целом тем же, чем дрожжи или закваска для теста, то вся община пришла в брожение; а так как население в целом по отношению к городу это то же, что мозг по отношению к телу, то злосчастные передряги, выпавшие на его долю, повлияли самым гибельным образом на Новый Амстердам – настолько, что во время некоторых пароксизмов уныния и замешательства были созданы многие из самых кривых и безобразных улиц и переулков, уродующих нашу столицу.
Но хуже всего было то, что как раз в это время чернь, впоследствии называвшаяся державным народом, подобно Валаамовой ослице, постепенно становилась более просвещенной, чем ехавший на ней всадник, и проявила странное желание самостоятельно управлять собой. Это было еще одно последствие «всеобъемлющих познаний» Вильяма Упрямого. Занимаясь своими пагубными изысканиями среди хлама древности, он пришел в восторг от распространенного среди лакедемонян обычая общественных трапез, за которыми они обсуждали интересующие всех вопросы, и от школ разных философов, где они занимались глубокомысленными спорами о политике и нравственности, где седобородые старики обучались основам мудрости, а юноши, не изведав детства, учились, как им стать маленькими мужчинами. «Нет ничего, – сказал многоумный Крифт, закрывая книгу, – нет ничего более важного для того, чтобы как следует управлять страной, нежели распространение образованности среди народа; основа хорошего правления должна быть заложена в общественном сознании». Все это достаточно верно, но такова была жестокая судьба Вильяма Упрямого, что всегда, когда он думал правильно, брался он за дело обязательно не так, как надо. На этот раз он почти не мог ни есть, ни спать, пока не основал обществ, в которых простые граждане Нового Амстердама занялись шумными спорами. Только этого недоставало для его окончательной гибели. Честные голландские бюргеры, хотя на самом деле не слишком были склонны к словопрениям, в результате частых встреч, во время которых они напивались допьяна, затуманивали свои мозги табачным дымом и выслушивали выспренние речи полудюжины оракулов, вскоре очень поумнели и – как всегда бывает, когда чернь просвещается в вопросах политики, – преисполнились недовольства. С изумительной быстротой соображения они обнаружили, что жестоко ошиблись, считая себя счастливейшим народом на свете, и пришли, на свою радость, к убеждению, что, вопреки всем данным, говорящим о противном, они были самым несчастным, обманутым и, следовательно, погибшим народом!
В скором времени новоамстердамские охотники до новостей объединились в союзы глубокомысленных политических ворчунов, которые ежедневно собирались, чтобы повздыхать над общественными делами и нагнать на себя тоску; они стекались на эти злополучные собрания с тем же рвением, с каким фанатики во все века покидали более кроткие и мирные пути религии, чтобы тесниться и завывать на сборищах изуверов. Мы от природы склонны к недовольству и с жадностью ищем воображаемые причины для жалоб; как ленивые монахи, мы истязаем свои собственные плечи и находим, по-видимому, великое удовлетворение в музыке собственных стенаний. Это не парадокс; повседневный опыт показывает истинность этих мудрых наблюдений. Утешать или пытаться поднять дух человека, стонущего от воображаемых невзгод, кажется почти смешным, но нет ничего легче, чем сделать его несчастным, хотя бы он и находился на верху блаженства, ибо поднять человека на колокольню было бы геркулесовым трудом, тогда как сбросить его оттуда может любой ребенок.
В глубокомысленных собраниях, упомянутых мною, философический читатель сразу различил бы слабые зачатки мудрых сборищ, называемых народными собраниями и широко распространенных в наши дни. Туда приходят все бездельники и «золоторотцы», которые, как лохмотья, болтаются на спине общества и легко могут быть унесены ветром любой доктрины. Сапожники покидали свои мастерские и спешили туда, чтобы поучать политической экономии; кузнецы бросали работу и давали погаснуть пламени в своих горнах, а сами тем временем дули в меха, чтобы разжечь пламя мятежа; и даже портные (каждый из которых был, как известно, одной девятой частью человека[280 - …одной девятой частью человека – шутливое прозвище портных в Англии.]), хотя и сплошь в заплатах, пренебрегали собственными делами, чтобы заняться делами государства. Не хватало только полудюжины газет и патриотических издателей, чтобы завершить народное просвещение и ввергнуть всю провинцию в бунт.
Не забыть бы упомянуть о том, что эти народные собрания всегда происходили в какой-нибудь известной таверне, ибо такого рода заведения всегда оказывались самыми подходящими рассадниками политиков; они изобиловали теми живительными соками, которые питают мятеж и придают ему силу. Говорят, что у древних германцев существовал превосходный способ рассматривать важные вопросы: сначала их обсуждали во хмелю, а затем снова возвращались к ним, протрезвившись. Сборища более проницательных американцев, не любящих двух мнений по одному и тому же предмету, и принимают решения, и приводят их в исполнение в пьяном виде; таким способом они обходятся без холодных и скучных размышлений. А так как всеми признано, что у пьяного двоится в глазах, то из этого с полной несомненностью следует, что он видит в два раза лучше, нежели его трезвые соседи.
ГЛАВА VI
Показывающая важное значение разделения на партии и рассказывающая о горестных затруднениях, выпавших на долю Вильяма Упрямого из-за того, что он просветил народ.
Некоторое время, однако, почтенные новоамстердамские политики, вынашивавшие величественный план спасения народа, были весьма смущены раздорами и непонятными разногласиями в собственных рядах; зачастую они приходили в самое хаотическое замешательство и смятение только потому, что у них не было классификации партий. А ведь нашим опытным политикам хорошо известно, что точная классификация и терминология столь же необходимы в политике; как и в естествознании. С их помощью можно как следует различить и изучить отдельные группы патриотов, их разветвления и скрещения, их связи и разновидности. Так, в разных концах света возникли родовые названия гвельфов и гибеллинов,[281 - Гвельфы и гибеллины – две партии в Италии XII–XV вв.; гвельфы – папская партия, боровшаяся против германских императоров и их сторонников в Италии, гибеллинов.] круглоголовых и кавалеров,[282 - Круглоголовые и кавалеры – прозвища пуритански настроенных сторонников парламента и приверженцев абсолютной королевской власти во время английской революции XVII в.] больших индейцев и малых индейцев,[283 - Большие индейцы и малые индейцы – имеются в виду племенные союзы американских индейцев.] вигов и тори, аристократов и демократов, республиканцев и якобинцев, федералистов и антифедералистов, а также некоей ублюдочной партии, называемой жвачка,[284 - Жвачка – английский каламбур: Quid означает «жвачка» и в то же время это название фракции республиканской партии, бывшей в оппозиции правительству США в 1805–1811 гг.] которая, по-видимому, родилась от скрещения двух последних партий, как мул произошел от скрещения лошади и осла, и подобно мулу, по-видимому, не способна к размножению, пригодна для неблагодарной черной работы, обречена нести бремя то отца, то матери и в награду за свои старания получать крепкие побои.
Существенная польза таких противопоставлений совершенно очевидна. Сколько есть на свете рьяных и работящих патриотов, чьи познания заимствованы из политического словаря; они никогда не знали бы своих собственных мнений, то есть, что они должны думать по тому или иному вопросу, если б не были распределены по партиям. Ведь, руководствуясь собственным здравым смыслом, члены общины могут прийти к такому единомыслию, которое, как это было бесспорно доказано многими превосходными писателями, оказывается роковым для благополучия государств. Часто случалось мне видеть благонамеренных героев 1776 года, находившихся в ужаснейшем затруднении, так как они не знали, какого мнения им держаться о некоторых лицах и действиях правительства, и подвергались большому риску подумать правильно, пока они внезапно не разрешали своих сомнений, прибегнув к испытанному пробному камню – разделению на вигов и тори. Эти названия, хотя они имеют столь же близкое отношение к ныне существующим партиям, как могучие статуи Гога и Магога[285 - Статуи Гога и Магога – две деревянные статуи в лондонском Гилдхолле. Во время пожара 1666 г. сгорели и в 1709 г. заменены новыми.] к почтенным лондонским олдерменам, с жадностью поглощающим под их покровительством черепаховый суп в здании ратуши, тем не менее при всех обстоятельствах служат нашему державному народу очками, чудесным образом помогающими видеть дальше собственного носа и отличить сокола от цапли или сову от ястреба!
Хорошо сказано в священном писании: «Конь знает владетеля своего, а осел ясли господина своего»,[286 - «Конь знает владетеля своего, и осел ясли господина своего». – Библия. Книга Исайи (1, V).] ибо, когда державный народ запряжен и на него надлежащим образом надето ярмо, приятно видеть, как размеренно и гармонично он движется вперед, шлепая по грязи и лужам, повинуясь приказаниям своих погонщиков и таща за собой жалкие телеги с дерьмом, принадлежавшие всяческим партиям. Сколько знавал я патриотических членов конгресса, которые честно намеревались, что бы ни случилось, держаться своей партии, и тем не менее могли то ли просто по неведению, то ли под влиянием совести и здравого смысла перейти в ряды своих противников и выступить в защиту противоположных мнений, если бы партии не носили общераспространенных названий, позволяющих легко отличить их друг от друга.
Поэтому благоразумные жители Нового Амстердама, после того как они некоторое время терпели невзгоды, связанные с отсутствием порядка, проявили, наконец, свойственную честным голландцам рассудительность и разделились на две партии, известные под названием квадратноголовые и плоскозадые. Название первой партии указывало на то, что ее члены были лишены той округлости черепа, которая считается признаком истинного гения; название второй – что ее члены не обладали природным мужеством или хорошим задом, как это впоследствии именовалось. И я приглашаю всех политиков нашего великого города попытаться доказать мне, что в нынешнее время раскол на две партии хоть где-нибудь произошел по более важному и основательному признаку.
Указанные выше названия, говоря чистую правду – а отступать от нее я счел бы для себя унизительным – возникли не в результате прихоти или случайности, как некогда существовавшие прозвища Десятиштанный и Крепкоштанник, а произошли от глубокомысленных и ученых умозаключений некоторых голландских философов. Не вдаваясь в подробности, укажу лишь, что то были догматы или основные начала остроумных теорий, впоследствии развитых в физиогномических трактатах Лафатера,[287 - Лафатер, Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский френолог, поэт и теолог, друг Гете; автор «Физиогномических очерков» (1775–1778), переведенных в 1789–1798 гг. на английский язык.] который вполне серьезно измеряет умственные способности по длине носа и улавливает их признаки в изгибе губ или бровей, в краниологии доктора Галля[288 - Галль, Франц Иосиф (1758–1828)-немецкий краниолог, основатель френологии, учения о связи между наружной формой черепа и психическими особенностями его обладателя. Большой популярностью пользовались его лекции в Париже в 1807 г., в которых он доказывал, что характер и способности человека могут быть определены по строению его черепа.] – обнаружившего местоположение и твердыни добродетелей и пороков, страстей и привычек в шишках черепа и доказывающего, что у иного олуха царя небесного череп истинного гения, – в Linea Fascialis[289 - Лицевые линии (лат.).] доктора Петруса Кампера,[290 - Кампер, Петрус (1722–1789) – голландский анатом и натуралист, в 1755–1761 гг. возглавлял кафедру анатомии и хирургии в Амстердамском университете.] профессора анатомии Амстердамского университета – объясняющего все на свете положением верхней и нижней челюсти относительно друг друга и доказывающего правильность старинного мнения о том, что сова самое мудрое из всех животных и что совершенно плоское лицо служит бесспорным признаком одаренности и образцом истинной красоты, – наконец, в задологии профессора Хиггенботома, который учит тому, что существует удивительная тесная связь между задницей и умом; эта теория подкрепляется опытами педагогов всех веков, обнаруживших, что припарки a parte poste[291 - К задней части (лат.).] прекрасно действуют на быстроту соображения их учеников и что самый действительный способ внедрения знаний в голову – это вколачивание их в зад!
Итак, просвещенные жители Новых Нидерландов, благополучно разбившись на партии, изо всей мочи принялись за дело, чтобы упрочить общественное благосостояние; они собирались в разных пивных и с неукротимой злобой обкуривали друг друга к великой пользе для государства и прибыли для владельцев питейных заведений. Некоторые, более рьяные, чем остальные, пошли дальше и начали осыпать друг друга множеством очень крепких ругательств и оскорбительных словечек, какие только существуют в голландском языке. Приверженцы каждой партии свято верили, что служат своей родине, черня репутацию политического противника или нанося ущерб его карману. Но как бы ни различались партии между собой, обе они были согласны в одном: они относились с злостным предубеждением к любой мере правительства, будь она правильна или неправильна. Ведь губернатор по своей должности не подчинялся их власти, не выбирался ими и ни одной из них не отдавал предпочтения, а потому ни та, ни другая не были заинтересованы в его успехе и в процветании страны, пока она находилась под его управлением.
«Несчастный Вильям Кифт! – восклицает мудрый автор стайвесантской рукописи. – Быть обреченным на препирательства с врагами, слишком лукавыми, чтобы их можно было перехитрить, и править народом, слишком умным, чтобы им можно было управлять». Все его походы против внешнего врага кончались неудачей, и на них никто не обращал внимания; все его меры для поддержания общественной безопасности вызывали ропот народа. Если он предлагал набрать армию, достаточную для защиты границ, чернь (то есть те праздношатающиеся члены общины, которым нечего было терять) немедленно била тревогу и принималась орать, что ее интересам угрожает опасность, что постоянная армия – это легион червей, пожирающих содержимое общественных карманов, бич в руках правительства и что правительство, имея в своем распоряжении военную силу, неизбежно перерастет в деспотию. Если он, как это слишком часто случалось, медлил до последней минуты, а затем второпях собирал горсточку необученных бродяг, то принятые им меры провозглашались слабыми и недостаточными, насмешкой над общественным достоинством и безопасностью, расточением общественных средств на никчемные предприятия. Если же он, соблюдая экономию, ограничивался посланиями, его осмеивали янки, а если он налагал запрет на сношения с врагами, то собственные подданные нарушали этот запрет и противодействовали ему. На каждом шагу губернатора осаждали и оглушали постановлениями «многолюдных и представительных собраний», на которых присутствовало с полдюжины презренных трактирных политиков, и все эти постановления он читал, и что еще хуже, все принимал во внимание. В результате, беспрестанно меняя свои распоряжения, он не мог правильно судить об их последствиях, а, прислушиваясь к крикам черни и стараясь угодить всем, он, честно говоря, не делал ничего.
Впрочем, я не хотел бы, чтобы у кого-нибудь возникло несправедливое предположение, будто Вильям Кифт относился добродушно ко всяким напоминаниям и вмешательствам, ибо это не вязалось бы с его доблестным духом; напротив, за всю его жизнь не было случая, чтобы он, получив совет, на первых порах не разгневался на того, кто его подал. Но я всегда замечал, что вспыльчивых маленьких людей, как маленькие лодки с большими парусами, легче всего вывести из равновесия или сбить с пути. Это мы видим на примере губернатора Кифта; хотя он по характеру был настоящий перец, а в его голове вечно крутились вихри и проносились ураганы, все же его неизменно увлекал каждый последний совет, доносившийся до его ушей. Для него счастье было, что его власть не зависела от грубой толпы и что население пока не обладало весьма важным правом назначать губернатора. Однако оно, как истинная чернь, делало все возможное, чтобы помочь в общественных делах, беспрестанно досаждая своему правителю, подстрекая его речами и постановлениями, а затем упреками и напоминаниями сдерживая его пыл, как на воскресных скачках шайка жокеев обращается с несчастными клячами. Можно сказать, что и Вильгельмуса Кифта в течение всего времени его правления то погоняли без передышки, то пускали легкой рысцой.
ГЛАВА VII
Содержащая различные страшные рассказы о пограничных войнах и гнусных насилиях коннектикутских разбойников а также о возвышении великого совета Амфиктионии на востоке и об упадке Вильяма Упрямого.
В числе многих гибельных опасностей, окружающих вашего отважного историка, есть одна, которой я не надеюсь избегнуть, несмотря на всю мою неизъяснимую кротость и безграничную доброжелательность по отношению к ближним. Движимый благочестивыми помыслами и роясь жадной рукой в гниющих останках прошлых дней, я могу подчас оказаться в таком же положении, в каком очутился храбрый Самсон,[292 - Самсон – согласно библейской легенде, Самсон обнаружил в трупе убитого им за несколько дней до этого льва рой пчел (Библия, Книга судей, 14, 8).] когда, прикоснувшись к трупу льва, навлек на себя рой пчел. Так и я сознаю, что стоит мне вдаться в подробности бесчисленных злодеяний племени яноки, или янки, как почти наверняка я задену болезненную чувствительность некоторых из их неразумных потомков и те несомненно накинутся на меня и подымут такое жужжание вокруг моей несчастной башки, что от их укусов меня могла бы защитить только крепкая шкура Ахиллеса или Orlando Furioso.[293 - Неистовый Роланд (итал.).] Если так и случится, я буду горько и искренне оплакивать не мою злосчастную судьбу, заставившую меня нанести обиду, а упрямую злобу нашего злонравного и безжалостного века, обижающегося на все, что бы я ни сказал. Послушайте, почтенные господа упрямцы, скажите мне, бога ради, что могу я поделать, если ваши прапрадеды так низко вели себя по отношению к моим прапрадедам? Я очень сожалею об этом, от всего сердца, и тысячу раз хотел бы, чтобы они вели себя в тысячу раз лучше. Но так как я рассказываю о священных событиях истории, то ни на йоту не могу поступиться чистой правдой, хотя бы и был уверен, что коннектикутский палач свалит в кучу все издание моего труда и сожжет его. И разрешите сказать вам, милостивые государи, что одно из великих предназначений, ради которых провидение посылает в этот мир нас, беспристрастных историков, именно в том и состоит, чтобы мы исправляли зло и обрушивали возмездие на головы виновных. Поэтому пусть какой-нибудь народ причиняет зло своим соседям, оставаясь временно безнаказанным, все же рано или поздно придет историк, который отдубасит его по заслугам. Так, у ваших предков, ручаюсь за них, когда они лупили и колотили почтенных жителей провинции Новые Нидерланды и чуть не свели с ума ее злосчастного маленького губернатора, в мыслях не было, что когда-нибудь явится историк вроде меня и возвратит им весь долг с процентами. Клянусь богом! От одного разговора об этом кровь закипает у меня в жилах! И меня разбирает охота с таким же аппетитом, с каким я уничтожал мой обед, на следующей же странице искрошить на мелкие кусочки всю кучу ваших предков! Но ради той горячей любви, какую я питаю к их потомкам, я, так и быть, пощажу их. Я верю, что, поняв, насколько в моей власти сделать всех вас до одного безродными, вы не найдете достаточно слов для восхваления моей справедливости и великодушия. Итак, с обычным спокойствием и беспристрастием я продолжаю мою историю.
Древние мудрецы, близко знакомые с этими делами, утверждали, что у ворот дворца Юпитера лежали две большие бочки, одна, наполненная благами, вторая – несчастьями. Воистину похоже на то, что последняя была опрокинута и затопила несчастную провинцию Новые Нидерланды. В числе других причин для раздражительности, постоянные вторжения и грабежи восточных соседей подогревали легко воспламеняющийся от природы темперамент Вильяма Упрямого. В летописях прежних дней можно еще и теперь обнаружить многочисленные сообщения о такого рода набегах, ибо пограничные начальники особо старались проявить свою неусыпную бдительность и воинское рвение, соревнуясь между собой в том, кто чаше других будет посылать в столицу жалобы и чьи жалобы будут всего длиннее; так ваши верные слуги вечно являются в гостиную с жалобами на мелкие кухонные дрязги и проступки. Донесения всех этих доблестных ябедников с великим гневом выслушивали и вспыльчивый маленький губернатор, и его подданные, которые точно с таким же любопытством жаждали узнать эти пограничные сплетни и с такой же легкостью верили им, с какими мои сограждане поглощают забавные истории, ежедневно наполняющие газеты, о британских нападениях на море, французских секвестрациях на суше и нарушениях испанцами наших прав в обетованной земле Луизиане.[294 - Луизиана. – Французская территория Луизиана была присоединена к США в 1803 г.] Все это доказывает, как я утверждал выше, что просвещенный народ любит быть несчастным.
Впрочем, я далек от того, чтобы утверждать, будто наши достойные предки тревожились попусту; напротив, им приходилось страдать от ежедневно повторявшихся жестоких несправедливостей, каждая из которых могла послужить – если исходить из понятий национального достоинства и национальной чести – достаточной причиной к тому, чтобы ввергнуть все человечество в междоусобицу и смуту.
Из множества горьких обид, упоминаемых в сохранившихся до нас летописях, я выбираю несколько самых ужасных и представляю моим читателям судить, были ли наши прародители правы, когда приходили из-за них в благородное негодование.
«24 июня 1641 года. Некие люди из Хартфорда увели с выгона свинью и заперли ее просто по злобе или из-за другого какого пристрастия, и уморили свинью голодом в хлеве!
26 июля. Означенные англичане снова угнали принадлежащих Компании свиней с Сикоджокского выгона в Хартфорд; что ни день, осыпали жителей хулой, ударами, избивали с позором, какой только могли придумать.