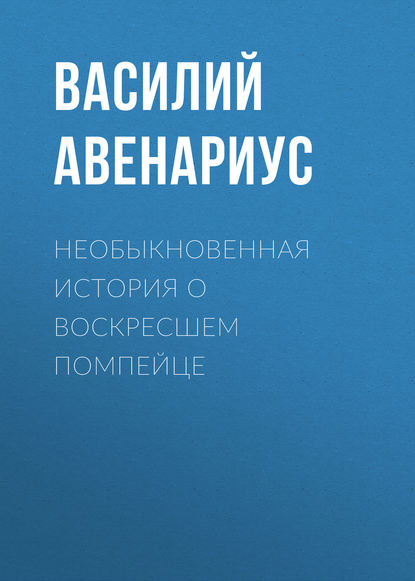По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Необыкновенная история о воскресшем помпейце
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «Бартолино», репортер «Неаполитанского Курьера»; «Меццолино», репортер «Утра»; «Труфальдино», репортер «Родины»; «Педролино», репортер «Жала»; «Баланцони», доктор изящных искусств и корреспондент-репортер римской «Трибуны».
– Ну, да, так и есть! – проворчал он.
– Да, – подхватил Антонио, – четырех-то из них я кое-как еще ублажил; вечерком обещались понаведаться. С пятым же не сладил: ворвался он силой в гостиную и говорить: «доложите, мол, что не уйду, покуда самого не увижу».
Скарамуцциа в сердцах даже топнул ногой.
– Cospetto del diavolo![7 - Это чёрт знает, что такое!] Нечего делать. Ты, Антонио, побудь уж покамест тут: неравно пациент наш проснется.
Он сам прошел в гостиную. Непрошенный гость развалился в мягком кресле, точно был лучшим другом дома. Это был мужчина средних лет, довольно неказистый на вид и неряшливо одетый, но в правом глазу у него был ущемлён монокль, вокруг измятого воротничка был намотан ярко-пунцовый шарф, приколотый золотой булавкой величиною с маленький грецкий орех и изображавшей мертвую голову; а на толстой золотой цепочке болтался карандаш в форме золотого пистолетика. Впрочем, за качество металла мертвой головы, цепочки и пистолета мы не ручаемся.
При входе профессора, гость на половину приподнялся, небрежно-элегантным жестом пригласит хозяина сесть рядом на диван и сам опустился опят в кресло.
– Лично, signore direttore, я не имел еще чести быть представленным вам, – начал он, – но позволю себе надеяться, что имя здешнего репортера римской «Трибуны» dottore Balanzoni, вам не совсем безызвестно?
– Слышал, – холодно отвечал профессор. – Чему я обязан честью видеть вас, signore dottore?
– Во-первых, я счел долгом от имени всей нашей отечественной печати принести вам искреннее поздравление с вашей удивительной находкой!
Скарамуцциа принял недоумевающий вид.
– Я вас не понимаю, сеньор. О какой такой находке говорите вы?
Гость с приятельской фамильярностью хлопнул его по колену. Bello, bellisimo![8 - Премило!] Кого вы вздумали морочит? Коли вес Неаполь толкует теперь только о вашем помпейце, так как же мне-то, первому репортеру, не знать о нем? Но что пока известно еще очень немногим – это то, что вы его оживили.
– С чего вы взяли? Неужели Антонио…
– Нет, Антонио ваш, я должен отдать ему честь, нем, как рыба, – с тонкой усмешкой отвечал репортер. – Но отчего же вы сами сейчас так испугались? Что значили ваши слова: «Неужели Антонио?..» Если бы оживление не удалось, то восклицание это не имело бы смысла… Погодите же, куда вы! – вскричал он, удерживая за полу профессора, который вскочил с места. – Ведь помпеец ваш спит; стало быть, вам некуда торопиться.
– Почем вы знаете: спит он или нет?
– Наверное, спит: иначе вы не оставили бы его одного. Только напрасно вы его с первого же раза так основательно напоили.
– Напоил?
– Ну, да, потому что без крепкого вина его, очевидно, сразу бы опять не укачало.
– Ну, Lacrymae Christi вовсе не так уже крепко…
– Однако, в таком количестве!
– В каком количестве? Одна рюмка и ребенку не повредит; а он взрослый мужчина…
– Да ведь с непривычки и почти натощак…
– Как врач, я руководился строгими правилами гигиены, и более полудюжины устриц, поверьте мне, я не смел ему дать.
– Не знаю, как и благодарить вас, signore direttore! – сказал Баланцони, с притворною сердечностью потрясая обе руки ученого. – Благодаря вашей любезной сообщительности, мой завтрашний фельетон, можно сказать, готов: воскрешение из мертвых – раз; рюмка Lacrymae Christi – два; полдюжины устриц – три; сон – четыре… А уж мое дело, фельетониста, разукрасить эти данные подходящими арабесками.
– Maledetto![9 - Проклятье!] – пробормотал про себя Скарамуцциа.
– Но скажите, signore direttore, – продолжал репортер: – к чему вы делаете из вашего помпейца какой-то секрет?
– Я возвратил его к жизни; значит…
– Значит, можете и распоряжаться им, как вашею собственностью? В наш просвещенный век, слава Богу, свобода личности вполне ограждена, и сам помпеец ваш первый запротестует против вашего самоуправства с ним!
– Личная свобода человека вообще, конечно, священна, – отвечал профессор, морщась и нетерпеливо потопывая по ковру ногой; – по, не касаясь теперь вопроса о том, может ли такой выходец с того света почитаться равноправным с нами, современными людьми, – не следует забывать, что он страшно отощал, и что на первое время для правильного откармливания его нужен безусловный покой.
– На первое время – пожалуй, согласен. А потом еще что же?
– Потом… От огромной массы новых впечатлений может пострадать у него цельность и ясность этих впечатлений. А для науки, как знаете, систематичность наблюдений особенно необходима, потому что он для нашего века новорожденный; душа его, как у младенца, по меткому выражению Аристотеля, – tabula rasa, незапятнанная доска, на которой всякий может писать, что ему угодно; а дайка эту доску в иные руки, – скоро на, ней ни одного чистого местечка не останется.
– Сравнение это принадлежит Аристотелю, говорите вы? – переспросил Баланцони, хватаясь за висевший у него на часовой цепочке пистолетик-карандаш.
– Аристотелю; сколько помнится, он говорит об этом во 2-й книге своего рассуждения о душе. Впрочем, и Цицерон сравнивает человеческую душу, непросветленную наукою и опытом, с плодородным полем, еще невозделанным и необсемененным.
– Не припомните ли также, где говорит он это?
– Говорит он это в своей речи… Да что вы там делаете, синьор? – прервал вдруг сам себя Скарамуцциа, видя, как гость его отодвинул обшлаг левого рукава и на своей манжетке принялся быстро отмечать что-то карандашом.
– Это у меня, изволите видеть, – пистолет, не огнестрельный, но не менее меткий, это – упрощенная записная книжка. Итак, к четырем первым пунктам я могу прибавить еще три: безусловный покой для правильного откармливания, Аристотелева tabula rasa из 2-й книги его рассуждения о душе, и, наконец, невозделанное поле Цицерона… Виноват, вы не досказали, в какой речи его упоминается об этом поле?
– Милостивый государь! – вспылил Скарамуцциа. – Вы записываете все мои слова?
– Ни все! – успокоил его репортер с приятнейшей улыбкой. – Только те, которые могут пригодиться для моего фельетона… Нет, нет, не перебивайте! Выслушайте сначала, а там решайте сами. Что мы, репортеры, народ довольно настойчивый, вы, я думаю, успели уже убедиться?
– Даже более, чем настойчивый…
– Назойливый, невыносимый, хотите вы сказать? Ну, вот, так я берусь избавить вас до поры до времени не только от моей собственной персоны, но и ото всех моих собратьев по перу, чтобы не мешать вам в ваших научных наблюдениях над помпейцем. Согласитесь, что это чрезвычайно мило?
– Согласен.
– Пока я буду довольствоваться теми немногими сведениями, которые вы соблаговолите передать мне для удовлетворения всеобщей любознательности. Но все это, конечно, под одним условием…
– Чего же вам нужно?
– Очень немногого. Как только ваши эксперименты с помпейцем будут окончены, и он должен быть выпущен на свет Божий, вы тотчас предваряете меня о том и затем уже не препятствуете мне (только мне одному, слышите, а не моим коллегам!) общаться с. ним, вывозить его, куда мне вздумается, и т. д., и т. д.
– Гм… – промычал Скарамуцциа. – Я вижу, signore dottore, что от вас не отвязаться. Но все-таки для меня непонятно, как вы принудите ваших коллег…
– Сейчас поймете, почтеннейший, сию минуту. Дайте мне только сперва ваше слово, – слово уважаемого всей Европой ученого, – что вы без всяких оговорок принимаете мою сделку.
– Ну, хорошо, хорошо! – со вздохом покорился тот неизбежному. – Итак?..
– Итак, извольте видеть: здесь, в Неаполе, все уже знают про вашего помпейца, и пока вы здесь, вам не будет отбоя от любопытных. Увезите же его отсюда на несколько дней в какую-нибудь глушь, увезите тихомолком в ночную пору, чтобы никто здесь и не подозревал, куда вы делись.
Скарамуцциа хлопнул себя рукой по лбу.