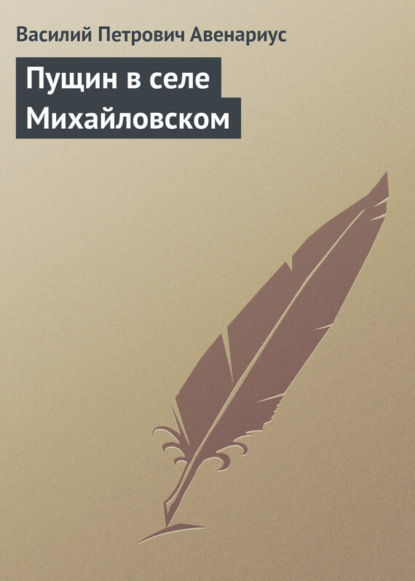По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пущин в селе Михайловском
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я спросил только: «Довольны ли вы?» Он в ответ раскрыл мне объятья, а я – повернул к нему спину.
– Вот это так! Ну, а второй случай был у тебя с кем?
– Тоже с военным – с командиром егерского полка Старовым. В городском казино танцевали. Я дирижировал танцами и велел играть мазурку. Вдруг откуда ни возьмись – молоденький армейский офицерик и кричит музыкантам: «Кадриль!» Я повторяю: «Мазурку!» Он свое: «Кадриль!» А я, смеясь: «Мазурку!» Музыканты, хоть и полковые, послушались меня, как дирижера, и заиграли мазурку. Начальник офицерика, полковник Старов, подозвал его к себе и потребовал, чтобы тот призвал меня к ответу. Бедняга опешил: «Да как же-с, полковник, я пойду объясняться с ними? Я их совсем не знаю…» – «Не знаете? – оборвал его Старов. – Так я объяснюсь за вас». И, подойдя ко мне, он объявил, что я должен тотчас извиниться перед его подчиненным. Я, понятно, наотрез отказался, и на другое же утро мы стояли с ним у барьера. Но была сильная метель, нельзя было целиться хорошенько, и снег забивался в пистолеты. Оба мы дали по два промаха и отложили дело, пока не пройдет метель; а тем временем нас помирили.
– Опять тебя Бог спас! – сказал Пущин.
– Да, верно, я Ему еще нужен. Впрочем, дело это имело еще маленький эпилог. Старов участвовал в кампании Двенадцатого года и заслужил славу храброго рубаки. Поэтому примирение его со «штафиркой» возбудило в городе большие толки. Два дня спустя, играя в ресторане на бильярде, я своими ушами слышал, как бывшие тут же в бильярдной ом. Я подошел к ним и прямо объявил: «Как мы покончили со Огаревым, – это наше дело; но я уважаю Старова, и если вы, господа, позволите себе еще осуждать его в моем присутствии, то я приму это за личную обиду, и вы будете иметь дело уже со мною».
– И что же эти господа?
– Смутились и стушевались. В этого времени я слыл в городе отчаянным головорезом, – со смехом заключил Пушкин. – Да как же, помилуй: человек в архалуке, в бархатных шароварах, непричесанный, неприлизанный, гуляет по улице запанибрата с генералами и размахивает при этом железной дубинкой! А местным тузам – армянам и молдаванам – режет правду в глаза, да еще в стихах! Кто-то по поводу слова «бессарабский» скаламбурил даже на мой счет: «бес арапский». Но виноват ли я, скажи, что моей африканской натуре надо было перебеситься?
– И что, кишиневцы давали тебе к тому столько прекрасных поводов? – досказал Пущин.
– У большинства там, действительно, вся цель жизни сводится к вину, картам и танцам. Но ты не думай, Пущин, что на уме у меня были одни дурачества. Между тамошним офицерством и чиновничеством было несколько человек с высшими умственными интересами. Сам Инзов, при всей простоте обращения, – человек просвещенный, начитанный, особенно по истории и естественным наукам. У него сходился свой избранный кружок, в котором можно было отвести душу[14 - Из членов этого кружка упомянем только о генерале Михаиле Федоровиче Орлове, который участвовал прежде в петербургском литературном обществе «Арзамас» под прозвищем Рейна, в 1812 году первым из русских вступил в Париж, за свою храбрость и заботливость о солдатах заслужил название «цвета русских генералов», а в 1821 году, в бытность в Кишиневе, женился на старшей Раевской, Екатерине Николаевне, приятельнице Пушкина по Гурзуфу.]. Здесь обсуждались все злобы дня – литературные, общественные, политические; а когда началось это несчастное восстание турецких христиан, мы все возгорели ненавистью к их притеснителям и готовы были также ринуться в бой… Есть моменты, когда ради ближнего готов поставить жизнь на карту!
– Ты, как поэт, в особенности. Восстание это если и было бесплодно, то для тебя послужило новым предметом вдохновенья.
– Для поэта, мой друг, весь окружающий мир, вся жизнь представляют неисчерпаемый источник вдохновенья: садись только да пиши. Кишиневцы видели во мне, конечно, прежде всего опасного ветреника, который при случае может щегольнуть стихом. Для Инзова с его кружком я был еще добрым малым. Едва ли кто из них подозревал, что я живу двойною жизнью: одною – с ними, другою – с самим собой. Я вел постоянную переписку с петербургскими литераторами; я перечитал массу книг не только на русском языке и трех главных иностранных, но и на итальянском, на испанском. Как школьник, который взялся наконец за ум, я пополнял те пробелы, что оставил у меня лицей. А сколько я работал над своим слогом, над каждым стихом!.. Одну поэму, которая меня не удовлетворяла, я даже сжег[15 - Поэму «Разбойники»; напечатанный затем отрывок из нее случайно сохранился у младшего Раевского.].
– Зато твой «Пленник», твой «Бахчисарайский фонтан» читаются теперь с восхищеньем всей Россией. Но ты позволишь мне, как другу, сделать одно замечание?
– Говори, пожалуйста.
– Ты зачитывался ведь Байроном? И в поэмах твоих слышится как будто тот же Байрон.
Пушкин слегка покраснел.
– Я сам чувствую это лучше всякого! – вздохнул он. – Но что поделаешь против этого мирового гения? Как-то невольно поддаешься ему и вторишь! За новейшую мою поэму «Цыганы» меня тоже, пожалуй, упрекнут в «байронизме»…
– Так не пора ли тебе отделаться от него?
– Я и то здесь, в Михайловском, принялся за Шекспира и начинаю набираться от него совсем нового, свежего духа. Что за мощь, что за глубина, что за знание человеческих страстей! В нашей литературе нет, к сожалению, ничего подобного.
– В трагическом роде – нет; в комическом же есть нечто столь же, пожалуй, великое и притом совершенно самобытное, русское.
– Ты о чем это говоришь, Пущин?
– О грибоедовском «Горе от ума».
– Мне много писали уже об этой комедии из Петербурга, но я до сих пор так и не читал ее, потому что она еще не разрешена к печати.
– Так прочти ее в рукописи.
– Да откуда ее взять?
– Откуда? Из моего чемодана: я привез ее тебе в презент.
Пушкин, ходивший все время обнявшись с приятелем, схватил его теперь за плечи и крепко затряс:
– Вот человек! Привез с собой такую прелесть и хоть бы слово! Давай же ее сюда, скорей, скорей!
VI
Хотя драгоценная рукопись и появилась из чемодана Пущина, но читать ее сейчас же Пушкину не пришлось: няня, накрывавшая на стол, запротестовала и заставила их сесть, чтобы «каша не остыла».
– И ничего лучше каши для редкого гостя ты, няня, не придумала? – укорил ее Пушкин.
– Да не сам ли ты, родимый, не раз говаривал, что гречневая каша вкуснее всякой похлебки? – оправдывалась старушка.
– Разумеется, вкуснее, – поддержал ее гость, – гречневая каша сама себя хвалит. Еще в лицее у нас не было блюда почетнее.
Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе[16 - Поговорка эта сложилась у лицеистов в Царском Селе по поводу одного из наказаний за дурное поведение – смещение на нижний конец стола, тогда как кушанье раздавалось дежурным гувернером на верхнем конце.].
Оба лицеиста обнаружили к любимому блюду такой «лицейский» аппетит, что хлопотавшая около них Арина Родионовна могла быть совершенно довольна. Когда же она подала второе блюдо – жареного гуся, начиненного капустой и яблоками, – торжество ее было полное: наперерыв уплетая за обе щеки, они только похваливали и гуся, и хозяйку-няню.
– Остается запить доброй домашней наливкой, – сказал Пушкин, протягивая руку за одной из стоявших перед ними бутылок.
– Погоди! – остановил его за руку Пущин и мигнул старушке.
Та только ожидала этого знака и юркнула за дверь. Вслед за тем рядом в коридоре хлопнула пробка. Пушкин, недоумевая, поднял голову.
– Это что такое?
– Салютная пальба, – усмехнулся Пущин.
Влетевший в это время Алексей поспешил наполнить им стаканы из завернутой в салфетку длинногорлой бутылки.
– Но откуда сие, Пущин? – спросил Пушкин, торопять отпить, пока пенистый напиток не перебежал через край.
– Из Шампаньи, от вдовы Клико.
– Это мы, ваша милость, по пути сюда, ночью в Острове раздобыли, – пояснил со своей стороны Алексей. – Насилу-то в винном погребе достучались!
– За царя и Русь! – возгласил Пушкин и звонко чокнулся с другом.
Второй тост был за процветание лицея, третий – за отсутствующих друзей.
– А теперь за няню из нянь, – сказал Пущин. – Алексей! Вторую бутылку!
Арина Родионовна стала было уверять, что не пьет этих заморских вин, но когда пригубила стакан, так не скоро уже отняла его от губ.
– После искрометного «аи»[17 - Vin d'Ay – шампанское.] пить домашнее варево как-то даже не пристало, – заметил Пушкин. – Вот что, няня: убери-ка эту наливку к себе в девичью и угости своих мастериц во здравье дорогого гостя.
– Помилуй, батюшка! Чтобы я сама их поила…