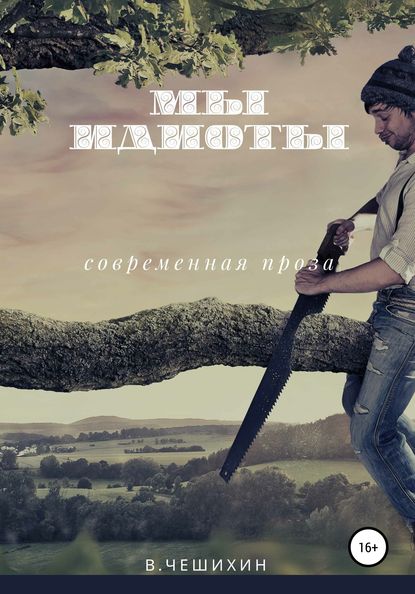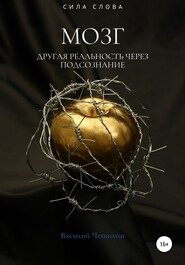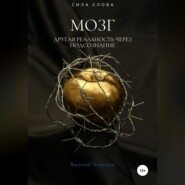По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мы идиоты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну! – торопит его дежурный немец своим голосом не терпящим возражения и ненавидящий чужих проволочек. Уроженец Африки стоит и смотрит на него широко открытыми глазами. – Ну! Паспорт!
Тот, опомнившись, дал паспорт. Служащий рассмотрел его и бросил в коробку.
– Заходи!
Негр входит. Перед ним расстилается большой двор, переходящий в улицу, вдоль которой стоят разного рода и вида строения, напоминающие концлагерь. Видимое в открытые окна неисчислимое количиство задейстованных компьютеров создают неожиданный контраст с первым впечатлением и успокаивают: здесь как минимум, компьютеризованный концлагерь.
– Ждать там! Ну, давай, быстро пошел! – один из полицейских машет неопределенно в сторону отдельно стоящего здания. Рядом в будке заливаются лаем три овчарки, раздражаясь совершенно демократично на представителей всех рас.
Внутри большого двухэтажного здания находится огромный холл, от которого во все стороны расходятся многочисленные коридоры и кабинеты, в которых прячутся работники. Он плотно забит людьми: черными, белыми, желтыми, бесцветными, многоцветными и другими. Белые, одетые бедно или совсем плохо перемешаны с высокими и статными неграми в добротных костюмах. Яркие красочные курдско-турецкие платья мелькают между грязными и порванными албанскими куртками. Там группа вьетнамцев вызывает явное неудовольствие маленького турка, делающего вид, что он – султан всего этого сброда. Ему есть на ком выместить свое неудовольствие – в углу жмуться к стенке человек десять женщин и детей, все совершенно непонятных возрастов, и совершенно очевидно его семья. Лица у собравшихся радостные и облегченные. Они уже пережили тысячекилометровые путешествия, потратили деньги, перешли вброд реки, нелегально пересекли границы. Все это позади. Они в долгожданном месте, о котором столько мечтали, грезили в беспокойных снах. Можно смеяться, говорить друг с другом обо всем, понимая и не понимая. Ведь впереди совершенно точно, – счастье, богатство! Сейчас можно быть беспечным.
Стоит адская какофония голосов, такая, какую, наверное, услышал Всевышний, когда в Вавилоне покарал людей разными языками и наречиями. Но нынешние потомки Адама оказались смышленей и научились находить общий язык. Теперь здесь галдело нечто ужасное, периодически прерываясь детскими истериками.
Вдруг над толпой пронеслось одно единственное слово, исковерканное интонациями и акцентами и выученное в немецком языке первым: «Эссен!» Толпа качнулась и лавиной бросилась в одну сторону, где появился человек, держащий в руке пачку бумажек. Гул голосов стал еще более сильным и взволнованным. Но мужчина, державший бумаги, был весьма опытен в усмирении этого человеческого стада. Он просто стоял и молчал, смотря отсутствующим взглядом в никуда. Ропот, шум постепенно смолкли. Тогда он принялся негромким голосом читать имена и фамилии, написанные на бумажках. Когда названный объявлялся, ему выдавали документ. Счастливчик с гордым видом человека, который смог обмануть других и получить талон на еду раньше, важно, но постепенно ускоряя шаг, направлялся он к столовой засвоей порцией обеда. По мере того, как толпа редела, ропот усиливался. Те, кто еще не получили причитающегося, бурчали громче и громче, боясь, что их забыли или что не хватит еды. Но уже через пятнадцать минут в том же холле все собрались назад и с довольными физиономиями уплетали выданный паек. Голосов почти не слышно, лишь звук, создаваемый парой сотен одновременно жующих ртов плывет над залом.
Юра, Леня и Борис устроились вместе на длинной лавке и спокойно поедали свой обед, каждый расправляясь с ним по-своему. В твердой тарелке из фольги лежал горячий гуляш с картошкой. Они имели ужасно соблазнительный вид. Человеку, умеющему по-настоящему ценить еду после долгого недоедания, проглотить такую порцию не позволит душа. Он скорее будет молится на нее, а потом наслаждаться каждым граммом пищи. Мясо оказалось свежим, нежилистым, картошка пахла картошкой. Ко всему этому дали еще литровую пачку сока и сладкий йогурт с кремом.
Пережевывая со знанием дела, неспеша, русская компания перебрасывалась словами. Юра, как всегда, задавал тон.
– Германия, черт! Кормят! У нас бы говна на палочке дали. Картошка бы гнилая, мясо – одни жилы, а сок – тот, вообще, кто даст? Вот черти! – он уплетал порцию с жадным и ненасытным взглядом, невзирая на хороший завтрак в Красном Кресте.
Борис ел медленно, смакуя каждую картофелину, каждый кусочек мяса. В глазах у него горел голодный блеск, как у человека не евшего уже несколько дней. Он, казалось старался растянуть удовольствие, запомнить вкус на случай, если прийдется еще голодать. Проглотив очередной кусок, он решил тоже поддержать разговор.
– Ты у нас бы еще на азюль попробовал сдаться, – усмехнулся он. Тебя бы там накормили, конечно! – его лицо вытянулось, представив, чем бы его в действительности накормили там.
– Я, когда паспорт в окошко дал, – вклинился с глупой улыбкой Леня, думал, что они меня пошлют. Он на меня так посмотрел, потом в паспорт, пошел что-то у полицая спросил, потом опять ко мне и смотрит…
– Смотрит добрыми глазами и думает, на хрен тебя послать или азюль дать, – прокомментировал Боря.
Юра поведал анекдот, времен бабушек, выдав его за новоиспеченный, но всем все равно приятно услышать. Сидящий напротив негр отбросил пустой пакет из под сока и смотрел, как они смеются, потом улыбнулся и сказал:
– Дойчланд – гут! – коллега? – его твердые и здоровы, как у лошади белые зубы показали веселый оскал.
– Гут, Гут! – ответили ему хором.
– Ай – Дойчланд гут! – добавил тот, покачав головой в подтверждение и поинтересовался. – Коллега югославишь?
– Нет, руссишь! – ответил Боря.
– А! Горбачев! – обрадовался негр.
– Горбачев капут! – пояснил Юра. – Руссланд – Ельцин!
– А! Ельцин! Гут! Перестройка! – он был явно подкован политически.
– Ладно, – Юра поднялся. – Идем на улицу перекурим, а то нам негр лекцию по истории СССР читать станет.
Они вышли во двор перед домом. Лагерь состоял из трех административных корпусов и десятка бараков. Туда-сюда сновали люди. Немцы бегали с озабоченным видом, делая вид будто работают с азюлянтами. Азюлянты бродили из стороны в сторону. Им нет необходимости притворяться, что они работают беженцами: все и так знают, что они притворяются.
Юра, как самый осведомленный говорил:
– Нас здесь записывают, мне сказали, берут кровь, дают документ, а потом везут в другой лагерь, более постоянный.
– Но еще должно быть интервью, – вставил неуверенно Борис. – Они спрашивают о твоих мотивах…
– Глупости! – перебил Юра. – Потом будет большое интервью, там спросят.
– Но они здесь тоже могут спросить.
– А хрен с ними! Пусть дадут лагерь… Нам, вообще, нужно вместе проситься, а то поселят тебя, Боря, с негром и будешь ты…
Время добралось уже до трех часов дня. Они вернулись наздад в здание. Вскоре пришел служащий и объявил, что теперь развезут по лагерям, а завтра все опять собираются на прежнем месте в старом добром Швальбахе для дальнейших процедур знакомств. Опять раздали бумажки, в которых на этот раз значилось название лагеря. Толпа двинулась к выходу, где ждали автобусы. Юра, Леня и Борис попали, как и просили, в одно место с непроизносимым названием «Ягдшлосс Минбрюх».
По потолку медленно полз паук. Он не плел паутину, а просто, как всякий опытный строитель, намечал место. Я наблюдал за ним уже минут пятнадцать, будучи в глубине души доволен, что не нужно посвящать себя другому занятию. Катя спала. Скоро ее надо будет будить, а пока и мне отпущено еще понежиться.
За три поселдних дня мы успели побывать во многих местах во Франкфурте, чем доставили ему несомненно удовольствие. Как и полагается, посмотрели музеи современности – супермаркеты, а также и другие менее значительные достопримечательности.
Германия, черт ее возьми! Франкфурт, как говорят, – самый грязный ее город. Не понятно только, каким бывает чистый? Кто, вообще, его грязным назвал? Я бы умника отправил на стажировку в Москву на Калининский, ах простите, на Новый Арбат или даже на старый Арбат, который, хоть и выглядит в пять раз новее нового, но оба могут спорить, кто из них грязнее – все равно не переспорят.
Сам город посоветовали рассматривать от железнодорожного вокзала. Мы так и поступили. Прямо от этого вокзала идет величественная улица, носящая имя Кайзерштрассе. Однако, с каким-либо кайзером у нее мало общего, во всяком случае, во всем том, что касается приличный сторон жизни этого кайзера. Она являет собой центр злачного или на местном жаргоне розового квартала, и от нее во все стороны разбегаются улочки, построенные из домов, от подвала до крыши набитых секс-шопами, публичными домами, ночными барами, проститутками и прочими прелестями свободного мира.
Взявшись за руки, мы твердо повернули в одну из них: любознательность требует жертв. Уже собирались сделать первый шаг, но нога сама повисла в воздухе, а собравшаяся было слететь с моих уст мысль, ненавязчиво вернулась назад в глотку. Сразу за поворотом, прямо на тротуаре, собравшись в кружок, сидели пять, густо обросших волосами личностей в потрепанной одежде. Они сосредоточились над тем, что усердно кололи себе шприцами вены. Памятуя американские фильмы о борьбе с наркомафией, я представил, что сюда должны броситься со всех сторон полицейские и повязать их заодно с нами. Вторая мысль была о том, что эти наркоманы сейчас сами набросятся на нас.
Когда я потом вспоминал эту сцену, то понял, что единственной достопримечательностью был в ней я сам, стоявший как ошарашенный идиот. Эти уважаемые субъекты сидели здесь, видимо, ни первую минуту, ни первый день и не первый год и свое дело собирались успешно продолжать. Проходившие мимо не обращали на них никакого внимания. А самим им было явно глубоко наплевать и на нас и на полицию, стоявшую неподалеку. К чести полиции нужно сказать, что она отвечала им взаимностью. Пока все до меня дошло, я повернул Катю и себя назад и повел ее в другую сторону.
– Лично я уже получил полную гамму эмоций от этого квартала, констатировала моя голова и произнес рот.
– Я тоже, – на этот раз жена оказалась того же мнения, что и я.
Пройдя пару-тройку небоскребов европейского типа, мы вышли к главной, по моим представлениям, улице этой финансовой столицы Германии. Зовут ее ни то Цыль, ни то Циель, что, впрочем, не столь важно для всей истории. Это такая широкая аллея, по бокам которой высятся громады всяческих магазинов. Взглянув на них, я сделал безразлично-отсутствующее лицо, всеми силами пытаясь показать, что стою посреди пустыни, впереди ничего не вижу, и никакого смысла идти туда быть просто не может. Передо мной мерцала гряда надвигающихся лет азюлянтского лагеря и грязная тяжелая работа необходимый инструмент борьбы за выживание. Там же, в грезах мерещилось и благосостояние, основанное на лежащих в кармане пяти тысячах марок единственное, чем мы располагаем. И тут я решительно перешел в наступление.
– Там! – показал я в противоположную сторону твердой рукой. – Старый город. Достопримечательности.
– Старые? – спросила Катя.
– Очень.
– Значит давно стоят? – это был подвох ниже пояса.
– Значит давно.
– Ну еще день постоят.
Битва была проиграна. Вздохнув тяжело на свою горькую судьбу, я уныло поплелся, влекомый супругой в обозримые дали капиталистического бытия…
Зелеными буквами написано название «Кауфхоф» на снежно-белом здании. Заходишь туда и чувствуешь себя погруженным в море, море всего. Если приняться описывать этот магазин, то не хватит всей жизни. Поэтому я его и не буду описывать, а буду лежать и смотреть на паука. И денег потраченных описывать не буду и жалеть о них не буду. Не о чем больше жалеть… Да и что значат потраченные сотни марок в сравнении с мировой революцией, а тем более с немецким паспоротом на мое имя, выписывающемся сейчас где-то в недрах их бюрократического аппарата? Наверное выписывающемся…
Катя зашевевелилась рядом.