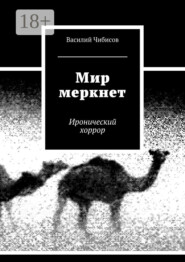По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собачье озеро. иронический хоррор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Социально-политические страсти неминуемо находят отклик в страстях душевных. Особенно у тех, кто имеет прямое отношение к действующей власти. У Станислава пропал сон. Даже дневной. Поначалу это радовало. В столь сложное время надо было постоянно куда-то лететь, с кем-то договариваться, кого-то устранять…
Но и в часы отдыха мозг отказывался ослаблять хватку рациональной активности. Словно психика из последних сил стояла на страже, пытаясь не выпустить в наш мир какое-то страшное знание. Практически сразу подключилась фобия. Страх ради страха. Янковскому было все равно, чего бояться: темноты, старух, собак.
Особенно собак. Раньше олигарх был заядлым собачником. Но сейчас близко бы не подошёл даже к таксе. Ему пришлось отправить своего ризеншнауцера к родственникам в Польшу. Разлука далась тяжело, но ещё тяжелее было находиться в одной квартире с псом. Один вид лохматого животного внушал бизнесмену суеверный ужас. Сам Янковский в последнее время чувствовал себя, как побитая…
– Собака.
Светлана смотрела на снегопад. Белые хлопья мстили политикам за их грязь, устилая пространство чистым незапятнанным ковром.
Интересно, почему пациент во сне с таким отрешенным упорством буквально призывает объект своего страха? Если кто-то боится собак, то сон с этими животными должен превратиться в кошмар. Логично? Только не для психотерапевта. Психика любит защищаться от болезненных воспоминаний. А лучшая защита, как известно, – нападение. Поэтому разум заранее вытесняет прочь нежелательные мысли.
Уничтожить мысль невозможно, зато можно изгнать, затолкать поглубже в бессознательное. Но изгнанник не будет сидеть, сложа руки (или что там у мысли есть?). Вытесненная память наладит тайные коммуникации с вполне невинными фантазиями, сновидениями, образами. И вот уже готов мост из бессознательного в сознание. Но разве можно обмануть собственную психику? Распознав уловку, наша внутренняя цензура делает всю цепочку неприкасаемой. Так возникает фобия.
Боязнь собак еще ни о чем не говорит.
Озёрская мягко, в такт своим тягучим мыслям, постучала по оконному стеклу. Звук нагло воспользовался повисшей тишиной и ворвался в акустическую жизнь кабинета тревожным набатом. Света медленно отвела руку от окна, из которого ничего уже не было видно, кроме белого безумия.
– Собака.
Врач обернулась. Пациент проснулся и, напряженный и встревоженный, сидел в кресле прямо, словно аршин проглотил. Его руки хаотично меняли положение, то оказываясь сложенными на груди, то падая на бедра, то цепляясь за подлокотники.
– Вам снилась собака? – дождавшись, пока Янковский успокоится, спросила Озёрская.
– Ещё какая, – с показной небрежностью бросил пациент и посмотрел на часы. – Что? Всего сорок минут прошло? Я же обычно дольше сплю. Вы меня специально разбудили?
– Нет. Я просто постучала по стеклу. Сама не ожидала, что получится громко, – честно призналась психотерапевт.
– Понятно. Я от такого звука в детстве часто просыпался и плакал. Меня прадед успокаивал. Разве я Вам не рассказывал про свое детство?
– Вы мне вообще почти ничего не рассказывали. Только спали.
– У Вас здесь хорошие условия для сна, – сознание Янковского пыталось экстренно прервать поток воспоминаний.
– Постарайтесь сейчас выговориться. Вы же сюда за этим пришли.
Пациент ещё молчал, но уже не хотел молчать.
– Да что тут выговаривать? – отмахнулся олигарх. – Неприятные эти были годы, мутные, нищие. Советский союз, Польша под пятой коммунистов. Ни оставаться в СССР, ни к родственникам уехать. Так и металось мое семейство. Отца расстреляли, когда мне было три. Я помню только, как мы с пугающе спокойной матерью куда-то едем в поезде. Потом еще поезд. И еще поезд. В общем, кое-как добрались до маленького поселка, где мой прадед жил. Да только он нас сам чуть не расстрелял.
– Прадед?
– Прадед, – руки Янковского опять стали обследовать ближайшие поверхности. – Он обитал в старом домишке. Всё, что осталось у него после раздела Польши. А ведь клан Янковских управлял настоящей промышленной империей, пока усатый с припадочным не сговорились. Все заводы остались на востоке, в руках большевиков. Но прадед загодя перебрался в неприметный поселок, к западу от новой границы. Там и переждал всю войну спокойно.
– Не воевал?
– Нет. Отказался. Вот его сын, то есть мой дед, погиб, сражаясь в рядах Крайовы.
– Просто взял и отказался?
– Да, сослался на возраст. Кстати, никто не знал достоверно, сколько ему лет. Но он и тогда уже был далеко не молод, если верить рассказам. И нацистов гораздо больше интересовали наши семейные предания. Очень повезло, что наш клан оказался на территории Рейха. Это Сталин не верил ни в бога, ни в черта. А НСДАП выделяла миллионы на изучение всякой мистики.
– Боюсь, я немного не поспеваю за Вашей мыслью.
– Мне просто кажется, что я всё это Вам уже рассказывал. Разве нет? – Озёрская покачала головой. – Нет?! Значит, мне все это снилось. Ну точно. Я ведь здесь спал? – Озёрская кивнула. – Спал?! Всё смешалось. Эти сны. Они такие подробные, такие невыносимые.
– Невыносимые, потому что реальные?
– Да. Меня затягивает в прошлое. Со страшной силой. Я забываю, что делал час назад, но детские сцены вижу ясно. Зачем мозг заставляет меня переживать все это снова? Неужели я схожу с ума, доктор?!
– Если бы Вы сходили с ума, то друзья порекомендовали бы Вам не меня, а Игнатия. Поверьте, безумие не задает лишних вопросов. И никогда не отвечает. Если уж психика дала трещину, то можно только замедлить или сгладить распад личности. Это в лучшем случае. Как правило, врачам остаётся только наблюдать, изучать, писать статьи, делиться опытом. Безмолвие.
– Тогда что со мной?
– Вы сами знаете ответ: память разбушевалась. Это норма. Посмотрите, что творится в стране. Тут каждого второго можно заподозрить в паранойе. Тяжкое зрелище. Ваша психика сохранна и целостна. Просто усталость, тревога, моральное истощение. Вот прошлое и хочет напомнить о себе.
– И что будем делать?
– Уже делаем. Разговариваем. Освещаем темные углы памяти, выметаем оттуда всю пыль, грязь, кровь, снег…
– Нда. Снега к ночи будет много. Вот такая же зима была, когда мы к прадеду приехали.
– Которого нацисты очень ценили?
– Скорее побаивались. Ходили же легенды по всей Польше, что Янковские с лесной жутью водятся. Поэтому и живут в доме на отшибе, у самой границы дремучего леса. Да только ерунда все это! До раздела страны все Янковские жили в крупных городах и управляли… Про промышленную империю я уже говорил? – кивок. – Так что лес прадед увидел впервые только в 1939. И охотно кормил байками нацистских любителей мистик. Дурачил им головы по полной программе, в общем.
– А новые власти?
– Коммунисты как-то его потеряли из виду. Может, забыли. Может, старые связи помогли. В общем, мы оказались в маленьком поселке, почти на самой границе Украинской ССР и Польши. Никому не нужные, никому не интересные. Но живые. Самый старый и самый молодой.
– А мать?
– А мать он выгнал.
– Как?!
– А не признал. Отец же не спросил согласия на женитьбу.
– Разве была возможность?
– Да даже контакта не было. Это сейчас скайп есть даже у столетних бабушек. А тогда… Но, едва нас увидев, прадед схватился за ружье. Помню, как он кричал что-то про ведьму и гнилую кровь. Будто мать чуть ли не своими руками донос на отца написала… И больше я ее не видел.
– Она умерла?
– Для меня – да. Когда архивы открыли, я по своим каналам собрал всю информацию. У нее половина городского исполкома в любовниках ходила. Да и сама она была ярой коммунисткой. Когда пошла новая волна охоты на врагов народа, она быстро уловила суть: брак с выходцем из семьи польских промышленников… Надо было отрекаться как минимум. Или как максимум… Вот она и пошла по максимуму. Вы меня слушаете?
– Да. Я пытаюсь посчитать, какой это был год. Сталина Вы застать не могли. А там Хрущев, оттепель.
– То, что оттепель, еще не значит, что никого не расстреливают. Шестидесятые годы, братские республики из Варшавского Договора захотели свободы. Само по себе преступление.