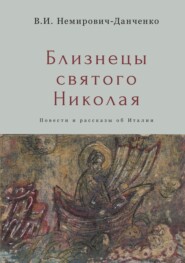По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Скобелев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да ведь он со мной вместе в одном полку служил.
– За что же вы полк свой оскорбляете?
– Как так?
– Да разве из вашего полка ничего хорошего выйти не может?
– Нет, не то… Но я вместе с ним кутил… Помилуйте, в Тифлисе мы петуха в пьяном виде подвергли смертной казни, с соблюдением всех предписанных на этот случай обрядов. И вдруг – герой, полководец, гений…
Я, разумеется, только расхохотался над этой наивностью.
Из моей книги видно, как здесь приняли победителя «халатников».
Гении Красного Села и звезды питерских зал столкнулись с настоящей боевой силой. Результатами этого были случаи, от которых М. Дм. в первом периоде войны рыдал как ребенок.
Здесь в этом кратком, даже слишком кратком наброске о его прошлом мы не приводим рассказов о его деятельности в турецкую войну – этому посвящена большая часть моей книги. По окончании войны Скобелеву недолго пришлось бездействовать. В Закаспийском крае тяжкая неудача постигла наш отряд, «руководимый неопытными начальниками». Поправить дело поручили Скобелеву, он блистательно выполнил это назначение. 12 января 1881 года, в то время как благоприятели злорадствовали по поводу якобы неудач Скобелева, когда всюду расходились зловещие вести о том, что Скобелев в плену, что наши бегут из-под Геок-Тепе, – вдруг телеграмма принесла весть о падении крепости и полном разгроме этих легендарных богатырей-разбойников…
Удивительная жизнь, удивительная быстрота ее событий: Коканд, Хива, Алай, Шипка, Ловча, Плевна 18 июля, Плевна 30 августа, Зеленые горы, переход Балкан, сказочный по своей быстроте поход на Адрианополь, Геок-Тепе и неожиданная, загадочная смерть – следуют одно за другим, без передышки, без отдыха.
Смерть неожиданная… Неожиданная для других, но никак не для него… Я уже говорил о том, как он не раз выражал предчувствия близкой кончины своей друзьям и интимным знакомым. Весной прошлого года, прощаясь с д-ром Щербаком, он опять повторил то же самое.
– Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году!..
Приехав к себе в Спасское, он заказал панихиду по генералу Кауфману.
В церкви он все время был задумчив, потом отошел в сторону к тому месту, которое выбрал сам для своей могилы и где лежит он теперь непонятный в самой своей смерти.
Священник о. Андрей подошел к нему и ваял его за руку.
– Пойдемте, пойдемте… Рано еще думать об этом… Скобелев очнулся, заставил себя улыбнуться.
– Рано?.. Да конечно рано… Повоюем, а потом и умирать будем…
Прощаясь с одним из своих друзей, он был полон тяжелых предчувствий.
– Прощайте!..
– До свидания…
– Нет, прощайте, прощайте… Каждый день моей жизни – отсрочка, данная мне судьбой. Я знаю, что мне не позволят жить. Не мне докончить все, что я задумал. Ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Ну, так я вам скажу: судьба или люди скоро подстерегут меня. Меня кто-то назвал роковым человеком, а роковые люди и кончают всегда роковым образом… Бог пощадил в бою… А люди… Что же, может быть, в этом искупление. Почем знать, может быть, мы ошибаемся во всем и за наши ошибки расплачивались другие?.. – И часто и многим повторял он, что смерть уж сторожит его, что судьба готовит ему неожиданный удар.
И это не было мимолетное, скоропреходящее чувство, легкое расстройство нервов. Напротив. Скобелев, как каждый русский человек, был не чужд тому внутреннему разладу, который замечается в наших лучших людях. Его постоянно терзали сомнения. Анализ не давал ему того спокойствия, с каким полководцы других стран и народов посылают на смерть десятки тысяч людей, не испытывая при этом ни малейших укоров совести, полководцы, для которых убитые и раненые представляются только более или менее неприятной подробностью блестящей реляции. Тут не было этой олимпийской цельности, Скобелев оказывался прежде всего человеком, и это-то в нем особенно симпатично. Очень уж не привлекателен даже гениальный генерал, для которого ухлопать дивизию-то же, что закусить. Это не ложная и пагубная сентиментальность начальников, чуть не плачущих перед фронтом во время боя. В такие минуты Скобелев бывал спокоен, решителен и энергичен, он сам шел на смерть и не щадил других, но после боя для него наступали тяжелые дни, тяжелые ночи. Совесть его не успокаивалась на сознании необходимости жертв. Напротив, она говорила громко и грозно. В триумфаторе просыпался мученик. Восторг победы не мог убить в его чуткой душе тяжелых сомнений. В бессонные ночи, в минуты одиночества полководец отходил назад и выступал на первый план человек с массой нерешенных вопросов, с раскаянием, с мучительным сознанием того, какую дорогую страшную цену требует неумолимый заимодавец судьба за каждый успех, в кредит отпущенный ею. Тысячи призраков сходились отовсюду с немым укором на бескровных устах – и недавний победитель мучился и казнился как преступник от всей этой массы им самим пролитой крови. Как кому не знаю, а для меня такой живо и глубоко чувствующий человек гораздо выше каменных истуканов, для которых бой – математическая формула с цифрами вместо людей! В высшей степени интересно в этом отношении доставленное мне письмо [Письмо Михаила Лаврентьевича Духонина] об одном из последних дней жизни М. Д.
Приведу из него некоторые отрывки.
«21 июня я имел последний служебный доклад у генерал-адъютанта Скобелева. Я его застал очень расстроенным, желтым.
– Не чувствуете ли вы себя больным? – спросил я.
– Да… Нужно заняться своим здоровьем… Дня через четыре я буду у себя в Спасском и начну правильное лечение.
– Что у вас?
– Катар и притом самое тяжелое, угнетающее состояние духа.
– Это всегда так бывает при подобных болезнях. Только такой сильный человек, как вы, должен бы совладать с собой.
– Я постараюсь…
За сим он начал разговор по поводу виденной им у меня картины, изображающей смерть майора Калитина со знаменем болгарской дружины в руке [Майор Калитин убит при защите Эски-Загры во главе болгарского ополчения, с его знаменем в руках, в тот момент, когда под напором бесчисленных таборов Сулеймана горсть наших войск должна была отступить].
– Нравится вам она?..
– Вот завидная смерть… Я бы хотел покончить свою жизнь такой именно смертью – во главе моего четвертого корпуса.
– Ну, М. Д., в бою, даст Бог, четвертый корпус не дрогнет, а потому и смерти, подобной смерти Калитина, не понадобится.
– Да, вы правы. Разумеется, четвертый корпус не дрогнет… Но я все же хочу славной смерти или…
– Или что?..
– Умирать пора… Один человек не может сделать более того, что ему под силу… Я свое дело выполнил и далее мне не идти вперед, а назад Скобелевы не пятились. Теперь мудреное время и мне остается разве только „размениваться“. Раз я вперед идти не могу – чего же жить? Видимо, в этот день ему было особенно тяжело.
– Я дошел до убеждения, что все на свете ложь, ложь и ложь… Все это – и слава, и весь этот блеск ложь… Разве в этом истинное счастье?.. Человечеству разве это надо?.. А ведь чего, чего стоит эта ложь, эта слава? Сколько убитых, раненых, страдальцев, разоренных!.. Кстати, вы человек верующий, религиозный… Объясните мне: будем ли мы с вами отвечать Богу за массу людей, которых мы погубили в боях.
– По учению церкви – убивать во имя воинского долга и присяги допускается. При погребении воина она его разрешает от этого греха.
– Вы это из катехизиса… Я знаю… Но что скажет голос совести… За что же мы наконец живем и наслаждаемся славой, добытой кровью братьев, сложивших свои головы?..»
Как симпатична эта черта в покойном! Видимо, не дешево для его чуткой совести и глубоко страдавшего сердца достались эти лавры.
Несколько успокоившись, он стал говорить о хозяйстве в своем Спасском, о своих дальнейших намерениях, об устроенной там школе и приглашал своего собеседника и сослуживца приехать погостить к нему с женой. В то же время он послал приглашение к г. Хитрово…
– Там я успокоюсь, воскресну… – повторял он мне. – Вы знаете, там я положительно чувствую себя другим человеком…
И по приезде в Москву покойный кипел жаждой деятельности… Сотни планов рождались у него в голове… Сотни планов и больших и малых; впрочем, для него не было малого дела, он так же серьезно обдумывал устройство своих сельских школ, учреждение инвалидного дома, как серьезно стоял на страже русских интересов, как серьезно готовился ко всевозможным случайностям будущего.
Но судьба готовила ему уже ту самую смерть, которую в тяжелые, редкие минуты хотел он сам. За весь последний год, как и прежде, – кругом кишмя кишели враги, росли зависть и злоба, и он болезненно чувствовал свое одиночество, жаловался на то, что около нет близкого, дорогого человека… Скорбная нотка звучала иногда и в самые лучшие и светлые минуты его жизни.
– Дела впереди еще много!.. – говорил он мне в Москве. – …Наши силы нужны… Всем следует сплотиться и отстаивать свое… Враг со всех сторон идет; неужели вы не понимаете, что Россия теперь вся на Малаховом кургане?
– Как это?
– Да так: мы отбиваемся опять от коалиции… Отовсюду нахлынули недруги… Разве это не войну они ведут с нами… Да, еще понадобятся наши силы… Одно страшно, жутко…
– Что это?
– Как вспомню, что опять начнут валиться под пулями да под штыками мои солдаты… Знаете, разумеется, надо… Сознаю, что надо… Лес рубят, щепки летят… Да ведь в каждой такой щепке целый мир… Ведь каждая такая единица, из которой мы складываем цифры убитых и раненых, носит в душе своей и радости, и страдания… Ведь сколько мук опять… Да, знаете… я люблю войну, она моя специальность. Но в то же время я ненавижу ее…