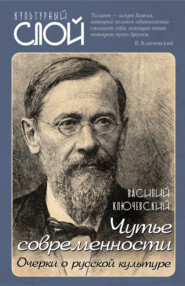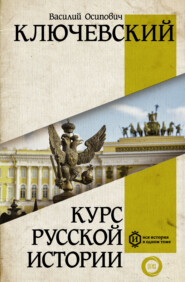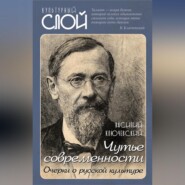По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петр Великий
Жанр
Серия
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
До нас дошли и такие сказания, которые показывают, какое чарующее впечатление преобразователь мог производить на массу своей личностью, своей работой. Один крестьянин Олонецкого края, передавая сказания о Петре, о том, как он бывал на Севере, как он работал, заключил свой рассказ словами: «Вот царь так царь! Даром хлеба не ел, пуще мужика работал». Но такое впечатление досталось в удел только немногим из народа, кто мог наблюдать Петра в его настоящем рабочем виде или кто способен был под оболочкой жестокой власти почуять внутренне нравственную силу, которою приводилась в движение эта видимо беспорядочная и порой опрометчивая деятельность. Один из прибыльщиков (Иван Филиппов) в записке, поданной самому Петру, обронил меткий о нем отзыв, которому может позавидовать историк, – назвал его «многомысленной и беспокойной главой», умеющей понимать того, кто ищет «правды, а народу оборону». Но фантазия народного множества, которому кнут и монах очертили дозволенные пределы мышления, нарядила Петра в самые постылые образы, какие нашлись в хламе ее представлений. Эти легенды питали и нравственно освящали порожденное государственными тягостями и немецкими новшествами общее недовольство всех сословий, о котором говорят свои и чужие наблюдатели, что оно к концу царствования достигло крайнего предела. Однако открытого восстания не ждали, за недостатком вождя и в расчете на рабскую покорность народа. Боевые мятежные силы, какие были налицо, израсходовались на прежние бунты – стрелецкие, астраханский, булавинский.
Разоруженную тяжбу с властью народ перенес теперь в высший суд мирской совести. Вскоре по смерти Петра, стрельцы-раскольники рассказывали: «Когда государь преставлялся, он сам про себя говорил: “Еще бы мне жить было, да мир меня проклял”». О великих трудах и замыслах Петра на пользу народа в ходячих народных толках не было и помину. Реформа пронеслась над народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой.
Среди своих сотрудников. Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушал и охоты к тому. Спешность дел, неуменье, иногда и невозможность выжидать, подвижность ума, необычайно быстрая наблюдательность – все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания решаться, обдумывать дело среди самого дела и, чутко угадывая требования минуты, на ходу соображать средства исполнения. В деятельности Петра все эти моменты, так отчетливо различаемые досужим размышлением и как бы рассыпающиеся при раздумье, шли дружно вместе, точно вырастая один из другого, с органически-жизненной неразделимостью и последовательностью. Петр является перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянно деловом общении с множеством людей, среди непрерывной смены впечатлений и предприятий; всего труднее вообразить его наедине с самим собою, в уединенном кабинете, а не в людной и шумной мастерской.
Это не значит, что у Петра не было тех общих руководящих понятий, из которых составляется образ мыслей человека. Только у Петра этот образ мыслей выражался несколько по-своему, не как подробно обдуманный план действий или запас готовых ответов на всевозможные запросы жизни, а являлся случайной импровизацией, мгновенной вспышкой постоянно возбужденной мысли, ежеминутно готовой отвечать на всякий запрос жизни при первой с ним встрече. Мысль его вырабатывалась на мелких подробностях, текущих вопросах практической деятельности, мастеровой, военной, правительственной. Он не имел ни досуга, ни привычки к систематическому размышлению об отвлеченных предметах, а воспитание не развило в нем и наклонности к этому. Но когда среди текущих дел ему встречался такой предмет, он своей прямой и здоровой мыслью составлял о нем суждение так же легко и просто, как его зоркий глаз схватывал структуру и назначение впервые встреченной машины. Но у него всегда были наготове две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для нас влияниями: это – неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычный древнерусскому обществу, но бывший начальным, исходным моментом его деятельности и вместе основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытывало в лице Петра Великого крутой перелом, решительный кризис.
Ближайшие предшественники Петра, московские цари новой династии, родоначальник которой сел на московский престол не по отцовскому завещанию, а по всенародному избранию, конечно, не могли видеть в управляемом ими государстве только свою вотчину, как смотрели на него государи прежней династии. Та династия построила государство из своего частного удела и могла думать, что государство для нее существует, а не она для государства, подобно тому как дом существует для хозяина, а не наоборот. Избирательное происхождение новой династии не допускало такого удельного взгляда на государство, составлявшего основу политического сознания государей Калитина племени. Соборное избрание дало царям нового дома новое основание и новый характер их власти. Земский собор просил Михаила на царство, а не Михаил просил царство у Земского собора. Следовательно, царь необходим для государства, и хотя государство существует не для государя, но без него оно существовать не может.
Идеей власти как основы государственного порядка, суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось все политическое содержание понятия о государе. Власть исполняет свое назначение, если только не бездействует, независимо от качества действия. Назначение власти – править, а править – значит приказывать и взыскивать. Как исполнить указ – это дело исполнителей, которые и отвечают перед властью за исполнение. Царь может спросить совета у ближайших исполнителей, своих советников, даже у советных людей всей земли, Земского собора. Это его добрая воля и много-много требование правительственного обычая или политического приличия. Дать совет, подать мнение о деле, когда его спрашивают, – это не политическое право Боярской думы или Земского собора, а их верноподданническая обязанность.
Так понимали и так практиковали свою власть первые цари новой династии. По крайней мере, так понимал и практиковал ее второй из них, царь Алексей, который даже не повторил тех неопределенных, никогда не обнародованных и ничем политически не обеспеченных обязательств, на которых целовал крест боярам – только боярам, а не Земскому собору, – его отец. И с 1613 по 1682 г. никогда – ни в Боярской думе, ни на Земском соборе – не возникало вопроса о пределах верховной власти, потому что все политические отношения устанавливались на основе, положенной избирательным собором 1613 г. Сами просили на царство, сами давайте и средства царствовать – такова основная нота в грамотах новоизбранного царя Михаила к собору.
Конечно, и по происхождению нового царственного дома, и по общему значению власти в христианском обществе христианская мысль и в составе московского самодержавия XVII в. могла найти идею долга царя как блюстителя общенародного блага и идею если не юридической, то нравственной его ответственности не только перед Богом, но и перед землей. А здравый смысл указывал, что власть не может быть сама себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной, как скоро перестает исполнять свое назначение – служить народному благу. Все это, вероятно, чувствовали и московские цари XVII в., особенно такой благодушный и набожный носитель власти, как царь Алексей Михайлович. Но они слабо давали чувствовать все это своим подданным, окруженные в своем дворце тяжелой церемониальной пышностью, при тогдашних, сказать мягко, суровых нравах и приемах управления, являясь перед народом земными богами в неземном величии каких-то царей Ассирийских.
Сенат и Синод в Санкт-Петербурге
Тот же благожелательный царь Алексей, может быть, и сознавал одностороннюю постановку своей власти; но у него недоставало сил пробиться сквозь накопившуюся веками и плотно окутавшую его толщу условных понятий и обрядностей, чтобы вразумительно показать народу и другую, оборотную, сторону власти. Это и лишало московских государей XVII в. того нравственно-воспитательного влияния на управляемое общество, которое составляет лучшее назначение и высшее качество власти. Своим образом правления, чувствами, какие они внушали управляемым, они значительно дисциплинировали их поведение, сообщали им некоторую наружную выдержку, но слабо смягчали их нравы и еще слабее проясняли их политические и общественные понятия.
В деятельности Петра Великого впервые ярко проявились именно эти народно-воспитательные свойства власти, едва заметно мерцавшие и часто совсем погасавшие в его предшественниках. Трудно сказать, под какими сторонними влияниями или каким внутренним процессом мысли, удалось Петру перевернуть в себе политическое сознание московского государя изнанкой на лицо. Только он в составе верховной власти всего яснее понял и особенно живо почувствовал «долженства», обязанности царя, которые сводятся, по его словам, к «двум необходимым делам правления»: распорядку, внутреннему благоустройству, и обороне, внешней безопасности государства.
В этом и состоит благо отечества, общее благо родной земли, русского народа или государства – понятия, которые Петр едва ли не первый у нас усвоил и выражал со всею ясностью первичных, простейших основ общественного порядка. Самодержавие – средство для достижения этих целей. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об отечестве; в радостные и скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия, и о своей обязанности служить отечеству, чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 г. русские войска взяли Нарву, смыв позор первого поражения. На радостях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему, наследнику, для обеспечения торжества над врагом следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасностей. «Ты должен любить все, что служит ко благу и чести отечества, не щадить трудов для общего блага; а если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя своим сыном».
Убранство домика Петра Великого в Петербурге
Впоследствии, когда возникла опасность исполнить эту угрозу, Петр писал царевичу: «За мое отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею; как могу тебя, непотребного, пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю». Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по Петергофской дороге: «Глупый человек, – сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о ее значении, – ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ладожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту: «Болезнь упряма, природа знает свое дело; но и нам надлежит пещись о пользе государства, пока силы есть». Соответственно характеру власти изменилась и ее обстановка: вместо кремлевских палат, пышных придворных обрядов и нарядов – плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице, простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице; на самом – простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопаными чулками – все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина века, «было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет».
Жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага – такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало привычно для его обиходной житейской практики.
Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору, смотрел на это как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия. Он знал, что слово Божие заповедует любить ближнего, как самого себя, полагать душу свою за други своя. Но под ближними он разумел, прежде всего, своих семейных и родных, как самых близких из ближних; а другами своими считал, пожалуй, и всех людей, но только как отдельных людей, а не как общества, в которые они соединены.
Автограф Петра Великого
В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защищал и его. Он понимал общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных, домашних дел.
«Что вы делаете дома? – с недоумением спрашивал он иногда окружающих. – Я не знаю, как без дела дома быть», т. е. без дела общественного, государственного. «Горько нам! Он наших нужд не знает, – жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел, – как бы присмотрел он хорошенько за своим домом да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем». Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий.
Этот взгляд служил общей основой законодательства Петра и выражался всенародно в указах и уставах как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, компании своих «друзей», как он называл их. Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, – довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, даже безродные, очень умные и даровитые и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство, и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра: князь Ф. Ю. Ромодановский, князь М. М. Голицын, Т. Стрешнев, князь Я. Ф. Долгорукий, князь Меншиков, графы Головины, Шереметев, П. Толстой, Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело; они шли за ним до последних лет Шведской войны, иные пережили Ништадтский мир и самого преобразователя.
Князь Ф. Ю. Ромодановский
Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волынский, Татищев, Неплюев, Миних, постепенно вступали в редевшие ряды на место раньше выбывших князя Б. Голицына, графа Ф. А. Головина, Шеина, Лефорта, Гордона. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний. Кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицеймейстер новой столицы Девиер, кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского, кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров, кто из русских дворовых людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги, Курбатов, кто, как Остерман, был сын вестфальского пастора.
Все эти люди вместе с князем Меншиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и люди новые, из русских, понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку, по мере сил и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царевна Софья, когда, по выражению князя Б. Куракина, Петрова свояка, «политес восставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовном строении, и в уборах, и в столах», с науками греческого и латинского языка, риторикой и священной философией, учеными киевскими старцами. Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешляхетскими науками – артиллерией, навтикой, фортификацией, с заграничными инженерами, механиками да с безграмотным и безродным Меншиковым, который всеми ими, родословными боярами, командует, которому даже сам фельдмаршал Б. П. Шереметев вынужден искательно писать: «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу».
Граф П. И. Ягужинский
Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскивать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине II: «Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду». Но в этой суровой школе применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое уменье распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но, за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу, среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом, собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, иного ободрить, другому дать хорошую острастку, чтоб не дремал, а смотрел в оба.
Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной к ним близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере, чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед ним одним. И, таким образом, получить возможность действовать не только на ощущение официального страха должностного холопа, но и на совесть как не лишнюю подпорку гражданского долга или, по крайней мере, общественного приличия. В этом отношении, что касается долга и приличия, большинство русских сотрудников Петра вышло из старого русского быта с большими недочетами, а в западноевропейской культуре, при первом знакомстве с нею, им больше всего пришлась по вкусу ее последняя прикладная часть, что ласкала чувства и возбуждала аппетиты. Из этой встречи старых пороков с новыми соблазнами вышла такая нравственная неурядица, которая заставляла многих неразборчивых людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев и ничего лучшего принести не может.
Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Свояк Петра князь Б. Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что, после семилетнего правления царевны Софьи, веденного «во всяком порядке и правосудии», когда «торжествовало довольство народное», наступило «непорядочное» правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось «мздоимство великое и кража государственная, что доныне (писано в 1727 г.) продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно». Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов с Меншиковым впереди были за это под судом и наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор князь Гагарин повешен, петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом, два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию, вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку, один следователь по делам о казнокрадстве расстрелян.
Про самого князя Я. Долгорукова, сенатора, считавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и князь Яков Федорович «не без причины». Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются «под фортецию правды». Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда блюститель закона, «око государево», генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: «Разве ваше величество хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее другого».
Человек снисходительный, доброжелательный и доверчивый, Петр в такой среде стал проникаться недоверием к людям и приобрел наклонность думать, что их можно обуздывать только «жесточью». Он не раз повторял Давидово слово, что всяк человек есть ложь, приговаривая: «Правды в людях мало, а коварства много». Такой взгляд отразился и на его законодательстве, столь щедром на жестокие угрозы. Впрочем, дурных людей не переведешь. Раз в кунсткамере он говорит своему лейб-медику Арескину: «Я велел губернаторам собирать монстры (уродов) и присылать к тебе; прикажи заготовить шкафы. Если бы я захотел присылать к тебе монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило; пускай шляются они во всенародной кунсткамере: между людьми они более приметны».
Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и вынужден был нередко прибегать к более прямым и коротким способам действия. В письме к непобедимому упрямцу-сыну он писал: «Сколько раз я тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал!» То же «отеческое наказание», как назван в манифесте об отрешении царевича от престолонаследия такой способ исправления, в отличие от «ласки и укоризненного выговора», Петр применял и к своим сподвижникам. Нерасторопным губернаторам, которые в ведении своих дел «зело раку последуют», он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж «не словом, но руками с оными поступать».
В этой ручной политической педагогике нередко появлялась в руках Петра его знаменитая дубинка, о которой так долго помнили и так много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII в. Петр признавал в ней большие педагогические способности и считал ее своей неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного воспитательного материала. Воротясь из Сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами, и гладя увивающуюся около него любимую свою собачку Лизету, он говорил: «Когда бы упрямцы так же слушались меня в добром деле, как послушна мне Лизета, я не гладил бы их дубиною; собачка догадливее их, слушается и без побой, а в тех заматерелое упрямство». Это упрямство, как спица в глазу, не давало покоя Петру. Занимаясь в токарной и довольный своей работой, он спросил своего токаря Нартова: «Каково я точу?» – «Хорошо, ваше величество!» – «Так-то, Андрей, кости я точу долотом изрядно, а вот упрямцев обточить дубиной не могу».
Князь А. Д. Меншиков
С царской дубинкой близко знаком был и светлейший князь Меншиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра. Этот даровитый делец занимал совершенно исключительное положение в кругу сотрудников преобразователя. Человек темного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать свое имя и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и корабельных занятий на голландских верфях, Меншиков, по отзыву того же Куракина, в милости у царя «до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай, и был такой сильный фаворит, что разве в римских гисториях находят». Он отлично знал царя, быстро схватывал его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, которой совсем не понимал, был чем-то вроде главного начальника его штаба, успешно, иногда с блеском, командовал в боях. Смелый, ловкий и самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и беспримерными полномочиями, отменял распоряжения его фельдмаршалов, не боялся противоречить ему самому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал. Но никто из сотрудников не огорчал его больше, чем этот «мейн липсте фринт» (мой любимый друг) или «мейн герцбрудер» (мой сердечный брат), как называл его Петр в письмах к нему. Данилыч любил деньги, и ему нужно было много денег. Сохранились счета, по которым с конца 1709 по 1711 г. он издержал лично на себя 45 тыс. руб., т. е. около 400 тыс. на наши деньги. И он не стеснялся в средствах добывать деньги, как показывают известия о его многочисленных злоупотреблениях. Бедный преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тыс. руб. поземельного дохода (около 1 300 тыс. на наши деньги), не считая драгоценных каменьев на 1 1/2 млн руб. (около 13 млн) и многомиллионных вкладов в заграничных банках. Петр не был скуп для заслуженного любимца. Но такое богатство едва ли могло составиться из одних царских щедрот да из барышей Беломорской компании моржового промысла, в которой князь состоял пайщиком.
А.П. Волынский
«Зело прошу, – писал ему Петр в 1711 г. по поводу его мелких хищений в Польше, – зело прошу, чтобы вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредита». Меншиков и старался исполнить эту просьбу царя, только уж слишком буквально: избегал «малых прибытков», предпочитая им большие.
Через несколько лет следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более 1 млн руб. (около 10 млн на наши деньги). Петр сложил значительную часть этого начета. Но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя: «Не забывай, кто ты был и из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь». В конце своей жизни, прощая ему новые вскрывшиеся хищения, он говорил всегдашней его заступнице, императрице: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой; если не исправится, быть ему без головы». Кроме заслуг, чистосердечного раскаяния и ходатайства Екатерины, в таких случаях выручала Меншикова из беды и царская дубинка, покрывавшая забвением грех наказанного.
Но и царская дубинка о двух концах: исправляя грешника одним концом, она другим роняла его во мнении общества. Петру нужны были дельцы с авторитетом, которых бы уважали и слушались подчиненные; а какое уважение мог внушать битый царем начальник? Петр надеялся устранить это деморализующее действие своей исправительной дубинки, делая из нее строго келейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видел, как здесь государь знатных чинов людей потчевал за вины дубинкою, как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостаивался дубинки: она была знаком известной близости, доверия к наказуемому. Потому испытавшие такое наказание вспоминали о нем без горечи, как о милости, даже когда считали себя наказанными незаслуженно.
А. П. Волынский после рассказывал, как во время Персидского похода, на Каспийском море Петр, по наговорам недругов, прибил его, бывшего тогда астраханским губернатором, тростью, заменявшей дубинку в ее отсутствие, и только императрица «до больших побой милостиво довести не изволила». «Но, – добавлял рассказчик, – государь изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своею ручкою, и назавтра сам всемилостивейше изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердуя, раскаялся и паки изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость». Петр наказывал так лишь тех, кем дорожил и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном корыстном поступке все того же Меншикова Петр отвечал: «Вина не малая, да прежние заслуги больше ее», подверг князя денежному взысканию, а в токарной прибил его дубиной при одном Нартове и выпроводил со словами: «В последний раз дубина; впредь смотри, Александр, берегись!»
Но когда добросовестный делец ошибался, делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его как утешают в несчастье, умаляя неудачу. В 1705 г. Б. Шереметев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Левенгаупта и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на «некоторый несчастливый случай», и писал фельдмаршалу: «Не извольте о бывшем несчастии печальны быть, понеже всегдашняя удача многих людей ввела в пагубу, но забывать и паче людей ободривать».
Б.П. Шереметев
Петр не успел стряхнуть с себя дочиста древнерусского человека с его нравами и понятиями даже тогда, когда воевал с ними. Это сказывалось не только в отеческой расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например, в надежде искоренить заблуждения в народе, выгоняя кнутом бесов из ложнобеснующихся – «хвост-де кнута длиннее хвоста бесовского», или в способе лечения зубов у жены своего камердинера Полубоярова. Камердинер жаловался Петру, что жена с ним неласкова, ссылаясь на зубную боль. – «Хорошо, я полечу ее». Считая себя достаточно опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубоврачебный прибор и зашел к камердинерше в отсутствие мужа. «У тебя, слышал я, зуб болит?» – «Нет, государь, я здорова». – «Неправда, ты трусишь». Та, оробев, признала у себя болезнь, и Петр выдернул у нее здоровый зуб, сказав: «Помни, что жена да боится своего мужа, иначе будет без зубов». – «Вылечил!» – с усмешкой заметил он мужу, воротившись во дворец.
П.А. Толстой
При уменье Петра обращаться с людьми, когда нужно, властно или запросто, по-царски или по-отечески, келейные поучения вместе с продолжительным общением в трудах, горях и радостях устанавливали известную близость отношений между ним и его сотрудниками. А участливая простота, с какою он входил в частные дела близких людей, придавала этой близости отпечаток задушевной короткости. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр, по обыкновению, или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив. Любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную, умную беседу и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче – ссор ибрани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляли пить штраф – опорожнить бокала три вина или одного «орла» (большой ковш), чтоб «лишнего не врал и не задирал».
П. Толстой долго помнил, как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся чересчур неосторожно расхваливать Италию. Ему и в другой раз пришлось пить штраф, только уже за излишнюю осторожность. Некогда, в 1682 г., как агент царевны Софьи и Ивана Милославского, он сильно замешался в стрелецкий бунт и едва удержал голову на плечах, но вовремя покаялся, получил прощение, умом и заслугами вошел в милость и стал видным дельцом, которым Петр очень дорожил. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв и разблагодушествовавшись, гости принялись запросто выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, незаметно уклонившийся от стаканов, сел у камелька, задремал, точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем, покачиваясь, внимательно прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя. Петр, по привычке ходивший взад и вперед по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал: «Смотрите, повисла голова – как бы с плеч не свалилась». – «Не бойтесь, ваше величество, – отвечал вдруг очнувшийся Толстой, – она вам верна и на мне тверда». – «А! Так он только притворился пьяным, – продолжал Петр, – поднесите-ка ему стакана три доброго флина (гретого пива с коньяком и лимонным соком), – так он поравняется с нами и так же будет трещать по-сорочьи». И, ударяя его ладонью по плеши, продолжал: «Голова, голова! Кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел».
Франц Лефорт
Щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз – это было еще до дела царевича Алексея – на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез: место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, – все это создание его государевых рук; как вспомнил он все это да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» – добавил он. – «Как на кого? – возразил Петр, – у меня есть наследник – царевич». – «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак! – заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове, – того при всех не говорят».
Участники этих досужих товарищеских бесед уверяют, что самодержавный государь, тогда как бы исчезал в веселом госте или радушном хозяине, хотя мы, зная рассказы про вспыльчивость Петра, скорее расположены думать, что благодушные его собеседники должны были чувствовать себя подобно путешественникам, любующимся видами с вершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости, и грозные вспышки. В 1698 г. на пиру у Лефорта Петр едва не заколол шпагой генерала Шеина, вспылив на него за торговлю офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Однако, несмотря на подобные случаи, видно, что гости на этих собраниях все-таки чувствовали себя весело и непринужденно. Корабельные мастера и флотские офицеры, подбадриваемые радушным потчеванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались, клялись ему в своей любви и усердии, за что получали соответственные выражения признательности.
Частное, не официальное обхождение с Петром облегчалось одной новостью, заведенной еще во время потех в Преображенском и вместе со всеми потехами превратившейся незаметно в прямое дело. Верный рано усвоенному правилу, что руководитель должен прежде и лучше руководимых знать дело, в котором он ими руководит. И вместе с тем, желая показать собственным примером, как надо служить, Петр, заводя регулярно армию и флот, сам проходил сухопутную и морскую службу с низших чинов. Он был барабанщиком в роте Лефорта, бомбардиром и капитаном, дослужился до генерал-лейтенанта и даже до полного генерала. При этом он позволял производить себя в высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского.
Н. Каразин. Петр I экзаменует учеников, возвратившихся из-за границы
Современники описывают торжественное пожалование Петра в вице-адмиралы за морскую победу при Гангуте в 1714 г., где он в чине контр-адмирала командовал авангардом и взял в плен командира шведской эскадры Эреншильда с его фрегатом и несколькими галерами. Среди полного собрания Сената восседал на троне князь-кесарь. Позван был контр-адмирал, от которого князь-кесарь принял письменный рапорт о победе. Рапорт был прочитан всему Сенату. Следовали устные вопросы победителю и другим участникам победы. Затем сенаторы держали совет. В заключение контр-адмирал, «в рассуждении верно оказанные и храбрые службы отечеству», единогласно провозглашен вице-адмиралом. Однажды, на просьбу нескольких военных о повышении их чинами, Петр не шутя отвечал: «Постараюсь, только как заблагорассудит князь-кесарь. Видите, я и о себе просить не смею, хотя отечеству с вами послужил верно; надо выбрать удобный час, чтоб его величество не прогневать; но что ни будет, я за вас ходатай, хоть и рассердится; помолимся прежде Богу, авось, дело сладится».
Разоруженную тяжбу с властью народ перенес теперь в высший суд мирской совести. Вскоре по смерти Петра, стрельцы-раскольники рассказывали: «Когда государь преставлялся, он сам про себя говорил: “Еще бы мне жить было, да мир меня проклял”». О великих трудах и замыслах Петра на пользу народа в ходячих народных толках не было и помину. Реформа пронеслась над народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой.
Среди своих сотрудников. Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушал и охоты к тому. Спешность дел, неуменье, иногда и невозможность выжидать, подвижность ума, необычайно быстрая наблюдательность – все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания решаться, обдумывать дело среди самого дела и, чутко угадывая требования минуты, на ходу соображать средства исполнения. В деятельности Петра все эти моменты, так отчетливо различаемые досужим размышлением и как бы рассыпающиеся при раздумье, шли дружно вместе, точно вырастая один из другого, с органически-жизненной неразделимостью и последовательностью. Петр является перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянно деловом общении с множеством людей, среди непрерывной смены впечатлений и предприятий; всего труднее вообразить его наедине с самим собою, в уединенном кабинете, а не в людной и шумной мастерской.
Это не значит, что у Петра не было тех общих руководящих понятий, из которых составляется образ мыслей человека. Только у Петра этот образ мыслей выражался несколько по-своему, не как подробно обдуманный план действий или запас готовых ответов на всевозможные запросы жизни, а являлся случайной импровизацией, мгновенной вспышкой постоянно возбужденной мысли, ежеминутно готовой отвечать на всякий запрос жизни при первой с ним встрече. Мысль его вырабатывалась на мелких подробностях, текущих вопросах практической деятельности, мастеровой, военной, правительственной. Он не имел ни досуга, ни привычки к систематическому размышлению об отвлеченных предметах, а воспитание не развило в нем и наклонности к этому. Но когда среди текущих дел ему встречался такой предмет, он своей прямой и здоровой мыслью составлял о нем суждение так же легко и просто, как его зоркий глаз схватывал структуру и назначение впервые встреченной машины. Но у него всегда были наготове две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для нас влияниями: это – неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычный древнерусскому обществу, но бывший начальным, исходным моментом его деятельности и вместе основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытывало в лице Петра Великого крутой перелом, решительный кризис.
Ближайшие предшественники Петра, московские цари новой династии, родоначальник которой сел на московский престол не по отцовскому завещанию, а по всенародному избранию, конечно, не могли видеть в управляемом ими государстве только свою вотчину, как смотрели на него государи прежней династии. Та династия построила государство из своего частного удела и могла думать, что государство для нее существует, а не она для государства, подобно тому как дом существует для хозяина, а не наоборот. Избирательное происхождение новой династии не допускало такого удельного взгляда на государство, составлявшего основу политического сознания государей Калитина племени. Соборное избрание дало царям нового дома новое основание и новый характер их власти. Земский собор просил Михаила на царство, а не Михаил просил царство у Земского собора. Следовательно, царь необходим для государства, и хотя государство существует не для государя, но без него оно существовать не может.
Идеей власти как основы государственного порядка, суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось все политическое содержание понятия о государе. Власть исполняет свое назначение, если только не бездействует, независимо от качества действия. Назначение власти – править, а править – значит приказывать и взыскивать. Как исполнить указ – это дело исполнителей, которые и отвечают перед властью за исполнение. Царь может спросить совета у ближайших исполнителей, своих советников, даже у советных людей всей земли, Земского собора. Это его добрая воля и много-много требование правительственного обычая или политического приличия. Дать совет, подать мнение о деле, когда его спрашивают, – это не политическое право Боярской думы или Земского собора, а их верноподданническая обязанность.
Так понимали и так практиковали свою власть первые цари новой династии. По крайней мере, так понимал и практиковал ее второй из них, царь Алексей, который даже не повторил тех неопределенных, никогда не обнародованных и ничем политически не обеспеченных обязательств, на которых целовал крест боярам – только боярам, а не Земскому собору, – его отец. И с 1613 по 1682 г. никогда – ни в Боярской думе, ни на Земском соборе – не возникало вопроса о пределах верховной власти, потому что все политические отношения устанавливались на основе, положенной избирательным собором 1613 г. Сами просили на царство, сами давайте и средства царствовать – такова основная нота в грамотах новоизбранного царя Михаила к собору.
Конечно, и по происхождению нового царственного дома, и по общему значению власти в христианском обществе христианская мысль и в составе московского самодержавия XVII в. могла найти идею долга царя как блюстителя общенародного блага и идею если не юридической, то нравственной его ответственности не только перед Богом, но и перед землей. А здравый смысл указывал, что власть не может быть сама себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной, как скоро перестает исполнять свое назначение – служить народному благу. Все это, вероятно, чувствовали и московские цари XVII в., особенно такой благодушный и набожный носитель власти, как царь Алексей Михайлович. Но они слабо давали чувствовать все это своим подданным, окруженные в своем дворце тяжелой церемониальной пышностью, при тогдашних, сказать мягко, суровых нравах и приемах управления, являясь перед народом земными богами в неземном величии каких-то царей Ассирийских.
Сенат и Синод в Санкт-Петербурге
Тот же благожелательный царь Алексей, может быть, и сознавал одностороннюю постановку своей власти; но у него недоставало сил пробиться сквозь накопившуюся веками и плотно окутавшую его толщу условных понятий и обрядностей, чтобы вразумительно показать народу и другую, оборотную, сторону власти. Это и лишало московских государей XVII в. того нравственно-воспитательного влияния на управляемое общество, которое составляет лучшее назначение и высшее качество власти. Своим образом правления, чувствами, какие они внушали управляемым, они значительно дисциплинировали их поведение, сообщали им некоторую наружную выдержку, но слабо смягчали их нравы и еще слабее проясняли их политические и общественные понятия.
В деятельности Петра Великого впервые ярко проявились именно эти народно-воспитательные свойства власти, едва заметно мерцавшие и часто совсем погасавшие в его предшественниках. Трудно сказать, под какими сторонними влияниями или каким внутренним процессом мысли, удалось Петру перевернуть в себе политическое сознание московского государя изнанкой на лицо. Только он в составе верховной власти всего яснее понял и особенно живо почувствовал «долженства», обязанности царя, которые сводятся, по его словам, к «двум необходимым делам правления»: распорядку, внутреннему благоустройству, и обороне, внешней безопасности государства.
В этом и состоит благо отечества, общее благо родной земли, русского народа или государства – понятия, которые Петр едва ли не первый у нас усвоил и выражал со всею ясностью первичных, простейших основ общественного порядка. Самодержавие – средство для достижения этих целей. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об отечестве; в радостные и скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия, и о своей обязанности служить отечеству, чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 г. русские войска взяли Нарву, смыв позор первого поражения. На радостях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему, наследнику, для обеспечения торжества над врагом следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасностей. «Ты должен любить все, что служит ко благу и чести отечества, не щадить трудов для общего блага; а если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя своим сыном».
Убранство домика Петра Великого в Петербурге
Впоследствии, когда возникла опасность исполнить эту угрозу, Петр писал царевичу: «За мое отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею; как могу тебя, непотребного, пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю». Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по Петергофской дороге: «Глупый человек, – сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о ее значении, – ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ладожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту: «Болезнь упряма, природа знает свое дело; но и нам надлежит пещись о пользе государства, пока силы есть». Соответственно характеру власти изменилась и ее обстановка: вместо кремлевских палат, пышных придворных обрядов и нарядов – плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице, простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице; на самом – простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопаными чулками – все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина века, «было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет».
Жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага – такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало привычно для его обиходной житейской практики.
Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору, смотрел на это как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия. Он знал, что слово Божие заповедует любить ближнего, как самого себя, полагать душу свою за други своя. Но под ближними он разумел, прежде всего, своих семейных и родных, как самых близких из ближних; а другами своими считал, пожалуй, и всех людей, но только как отдельных людей, а не как общества, в которые они соединены.
Автограф Петра Великого
В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защищал и его. Он понимал общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных, домашних дел.
«Что вы делаете дома? – с недоумением спрашивал он иногда окружающих. – Я не знаю, как без дела дома быть», т. е. без дела общественного, государственного. «Горько нам! Он наших нужд не знает, – жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел, – как бы присмотрел он хорошенько за своим домом да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем». Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий.
Этот взгляд служил общей основой законодательства Петра и выражался всенародно в указах и уставах как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, компании своих «друзей», как он называл их. Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, – довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, даже безродные, очень умные и даровитые и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство, и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра: князь Ф. Ю. Ромодановский, князь М. М. Голицын, Т. Стрешнев, князь Я. Ф. Долгорукий, князь Меншиков, графы Головины, Шереметев, П. Толстой, Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело; они шли за ним до последних лет Шведской войны, иные пережили Ништадтский мир и самого преобразователя.
Князь Ф. Ю. Ромодановский
Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волынский, Татищев, Неплюев, Миних, постепенно вступали в редевшие ряды на место раньше выбывших князя Б. Голицына, графа Ф. А. Головина, Шеина, Лефорта, Гордона. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний. Кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицеймейстер новой столицы Девиер, кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского, кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров, кто из русских дворовых людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги, Курбатов, кто, как Остерман, был сын вестфальского пастора.
Все эти люди вместе с князем Меншиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и люди новые, из русских, понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку, по мере сил и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царевна Софья, когда, по выражению князя Б. Куракина, Петрова свояка, «политес восставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовном строении, и в уборах, и в столах», с науками греческого и латинского языка, риторикой и священной философией, учеными киевскими старцами. Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешляхетскими науками – артиллерией, навтикой, фортификацией, с заграничными инженерами, механиками да с безграмотным и безродным Меншиковым, который всеми ими, родословными боярами, командует, которому даже сам фельдмаршал Б. П. Шереметев вынужден искательно писать: «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу».
Граф П. И. Ягужинский
Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскивать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине II: «Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду». Но в этой суровой школе применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое уменье распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но, за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу, среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом, собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, иного ободрить, другому дать хорошую острастку, чтоб не дремал, а смотрел в оба.
Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной к ним близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере, чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед ним одним. И, таким образом, получить возможность действовать не только на ощущение официального страха должностного холопа, но и на совесть как не лишнюю подпорку гражданского долга или, по крайней мере, общественного приличия. В этом отношении, что касается долга и приличия, большинство русских сотрудников Петра вышло из старого русского быта с большими недочетами, а в западноевропейской культуре, при первом знакомстве с нею, им больше всего пришлась по вкусу ее последняя прикладная часть, что ласкала чувства и возбуждала аппетиты. Из этой встречи старых пороков с новыми соблазнами вышла такая нравственная неурядица, которая заставляла многих неразборчивых людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев и ничего лучшего принести не может.
Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Свояк Петра князь Б. Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что, после семилетнего правления царевны Софьи, веденного «во всяком порядке и правосудии», когда «торжествовало довольство народное», наступило «непорядочное» правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось «мздоимство великое и кража государственная, что доныне (писано в 1727 г.) продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно». Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов с Меншиковым впереди были за это под судом и наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор князь Гагарин повешен, петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом, два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию, вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку, один следователь по делам о казнокрадстве расстрелян.
Про самого князя Я. Долгорукова, сенатора, считавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и князь Яков Федорович «не без причины». Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются «под фортецию правды». Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда блюститель закона, «око государево», генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: «Разве ваше величество хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее другого».
Человек снисходительный, доброжелательный и доверчивый, Петр в такой среде стал проникаться недоверием к людям и приобрел наклонность думать, что их можно обуздывать только «жесточью». Он не раз повторял Давидово слово, что всяк человек есть ложь, приговаривая: «Правды в людях мало, а коварства много». Такой взгляд отразился и на его законодательстве, столь щедром на жестокие угрозы. Впрочем, дурных людей не переведешь. Раз в кунсткамере он говорит своему лейб-медику Арескину: «Я велел губернаторам собирать монстры (уродов) и присылать к тебе; прикажи заготовить шкафы. Если бы я захотел присылать к тебе монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило; пускай шляются они во всенародной кунсткамере: между людьми они более приметны».
Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и вынужден был нередко прибегать к более прямым и коротким способам действия. В письме к непобедимому упрямцу-сыну он писал: «Сколько раз я тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал!» То же «отеческое наказание», как назван в манифесте об отрешении царевича от престолонаследия такой способ исправления, в отличие от «ласки и укоризненного выговора», Петр применял и к своим сподвижникам. Нерасторопным губернаторам, которые в ведении своих дел «зело раку последуют», он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж «не словом, но руками с оными поступать».
В этой ручной политической педагогике нередко появлялась в руках Петра его знаменитая дубинка, о которой так долго помнили и так много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII в. Петр признавал в ней большие педагогические способности и считал ее своей неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного воспитательного материала. Воротясь из Сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами, и гладя увивающуюся около него любимую свою собачку Лизету, он говорил: «Когда бы упрямцы так же слушались меня в добром деле, как послушна мне Лизета, я не гладил бы их дубиною; собачка догадливее их, слушается и без побой, а в тех заматерелое упрямство». Это упрямство, как спица в глазу, не давало покоя Петру. Занимаясь в токарной и довольный своей работой, он спросил своего токаря Нартова: «Каково я точу?» – «Хорошо, ваше величество!» – «Так-то, Андрей, кости я точу долотом изрядно, а вот упрямцев обточить дубиной не могу».
Князь А. Д. Меншиков
С царской дубинкой близко знаком был и светлейший князь Меншиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра. Этот даровитый делец занимал совершенно исключительное положение в кругу сотрудников преобразователя. Человек темного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать свое имя и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и корабельных занятий на голландских верфях, Меншиков, по отзыву того же Куракина, в милости у царя «до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай, и был такой сильный фаворит, что разве в римских гисториях находят». Он отлично знал царя, быстро схватывал его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, которой совсем не понимал, был чем-то вроде главного начальника его штаба, успешно, иногда с блеском, командовал в боях. Смелый, ловкий и самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и беспримерными полномочиями, отменял распоряжения его фельдмаршалов, не боялся противоречить ему самому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал. Но никто из сотрудников не огорчал его больше, чем этот «мейн липсте фринт» (мой любимый друг) или «мейн герцбрудер» (мой сердечный брат), как называл его Петр в письмах к нему. Данилыч любил деньги, и ему нужно было много денег. Сохранились счета, по которым с конца 1709 по 1711 г. он издержал лично на себя 45 тыс. руб., т. е. около 400 тыс. на наши деньги. И он не стеснялся в средствах добывать деньги, как показывают известия о его многочисленных злоупотреблениях. Бедный преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тыс. руб. поземельного дохода (около 1 300 тыс. на наши деньги), не считая драгоценных каменьев на 1 1/2 млн руб. (около 13 млн) и многомиллионных вкладов в заграничных банках. Петр не был скуп для заслуженного любимца. Но такое богатство едва ли могло составиться из одних царских щедрот да из барышей Беломорской компании моржового промысла, в которой князь состоял пайщиком.
А.П. Волынский
«Зело прошу, – писал ему Петр в 1711 г. по поводу его мелких хищений в Польше, – зело прошу, чтобы вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредита». Меншиков и старался исполнить эту просьбу царя, только уж слишком буквально: избегал «малых прибытков», предпочитая им большие.
Через несколько лет следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более 1 млн руб. (около 10 млн на наши деньги). Петр сложил значительную часть этого начета. Но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя: «Не забывай, кто ты был и из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь». В конце своей жизни, прощая ему новые вскрывшиеся хищения, он говорил всегдашней его заступнице, императрице: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой; если не исправится, быть ему без головы». Кроме заслуг, чистосердечного раскаяния и ходатайства Екатерины, в таких случаях выручала Меншикова из беды и царская дубинка, покрывавшая забвением грех наказанного.
Но и царская дубинка о двух концах: исправляя грешника одним концом, она другим роняла его во мнении общества. Петру нужны были дельцы с авторитетом, которых бы уважали и слушались подчиненные; а какое уважение мог внушать битый царем начальник? Петр надеялся устранить это деморализующее действие своей исправительной дубинки, делая из нее строго келейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видел, как здесь государь знатных чинов людей потчевал за вины дубинкою, как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостаивался дубинки: она была знаком известной близости, доверия к наказуемому. Потому испытавшие такое наказание вспоминали о нем без горечи, как о милости, даже когда считали себя наказанными незаслуженно.
А. П. Волынский после рассказывал, как во время Персидского похода, на Каспийском море Петр, по наговорам недругов, прибил его, бывшего тогда астраханским губернатором, тростью, заменявшей дубинку в ее отсутствие, и только императрица «до больших побой милостиво довести не изволила». «Но, – добавлял рассказчик, – государь изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своею ручкою, и назавтра сам всемилостивейше изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердуя, раскаялся и паки изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость». Петр наказывал так лишь тех, кем дорожил и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном корыстном поступке все того же Меншикова Петр отвечал: «Вина не малая, да прежние заслуги больше ее», подверг князя денежному взысканию, а в токарной прибил его дубиной при одном Нартове и выпроводил со словами: «В последний раз дубина; впредь смотри, Александр, берегись!»
Но когда добросовестный делец ошибался, делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его как утешают в несчастье, умаляя неудачу. В 1705 г. Б. Шереметев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Левенгаупта и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на «некоторый несчастливый случай», и писал фельдмаршалу: «Не извольте о бывшем несчастии печальны быть, понеже всегдашняя удача многих людей ввела в пагубу, но забывать и паче людей ободривать».
Б.П. Шереметев
Петр не успел стряхнуть с себя дочиста древнерусского человека с его нравами и понятиями даже тогда, когда воевал с ними. Это сказывалось не только в отеческой расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например, в надежде искоренить заблуждения в народе, выгоняя кнутом бесов из ложнобеснующихся – «хвост-де кнута длиннее хвоста бесовского», или в способе лечения зубов у жены своего камердинера Полубоярова. Камердинер жаловался Петру, что жена с ним неласкова, ссылаясь на зубную боль. – «Хорошо, я полечу ее». Считая себя достаточно опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубоврачебный прибор и зашел к камердинерше в отсутствие мужа. «У тебя, слышал я, зуб болит?» – «Нет, государь, я здорова». – «Неправда, ты трусишь». Та, оробев, признала у себя болезнь, и Петр выдернул у нее здоровый зуб, сказав: «Помни, что жена да боится своего мужа, иначе будет без зубов». – «Вылечил!» – с усмешкой заметил он мужу, воротившись во дворец.
П.А. Толстой
При уменье Петра обращаться с людьми, когда нужно, властно или запросто, по-царски или по-отечески, келейные поучения вместе с продолжительным общением в трудах, горях и радостях устанавливали известную близость отношений между ним и его сотрудниками. А участливая простота, с какою он входил в частные дела близких людей, придавала этой близости отпечаток задушевной короткости. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр, по обыкновению, или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив. Любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную, умную беседу и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче – ссор ибрани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляли пить штраф – опорожнить бокала три вина или одного «орла» (большой ковш), чтоб «лишнего не врал и не задирал».
П. Толстой долго помнил, как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся чересчур неосторожно расхваливать Италию. Ему и в другой раз пришлось пить штраф, только уже за излишнюю осторожность. Некогда, в 1682 г., как агент царевны Софьи и Ивана Милославского, он сильно замешался в стрелецкий бунт и едва удержал голову на плечах, но вовремя покаялся, получил прощение, умом и заслугами вошел в милость и стал видным дельцом, которым Петр очень дорожил. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв и разблагодушествовавшись, гости принялись запросто выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, незаметно уклонившийся от стаканов, сел у камелька, задремал, точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем, покачиваясь, внимательно прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя. Петр, по привычке ходивший взад и вперед по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал: «Смотрите, повисла голова – как бы с плеч не свалилась». – «Не бойтесь, ваше величество, – отвечал вдруг очнувшийся Толстой, – она вам верна и на мне тверда». – «А! Так он только притворился пьяным, – продолжал Петр, – поднесите-ка ему стакана три доброго флина (гретого пива с коньяком и лимонным соком), – так он поравняется с нами и так же будет трещать по-сорочьи». И, ударяя его ладонью по плеши, продолжал: «Голова, голова! Кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел».
Франц Лефорт
Щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз – это было еще до дела царевича Алексея – на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез: место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, – все это создание его государевых рук; как вспомнил он все это да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» – добавил он. – «Как на кого? – возразил Петр, – у меня есть наследник – царевич». – «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак! – заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове, – того при всех не говорят».
Участники этих досужих товарищеских бесед уверяют, что самодержавный государь, тогда как бы исчезал в веселом госте или радушном хозяине, хотя мы, зная рассказы про вспыльчивость Петра, скорее расположены думать, что благодушные его собеседники должны были чувствовать себя подобно путешественникам, любующимся видами с вершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости, и грозные вспышки. В 1698 г. на пиру у Лефорта Петр едва не заколол шпагой генерала Шеина, вспылив на него за торговлю офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Однако, несмотря на подобные случаи, видно, что гости на этих собраниях все-таки чувствовали себя весело и непринужденно. Корабельные мастера и флотские офицеры, подбадриваемые радушным потчеванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались, клялись ему в своей любви и усердии, за что получали соответственные выражения признательности.
Частное, не официальное обхождение с Петром облегчалось одной новостью, заведенной еще во время потех в Преображенском и вместе со всеми потехами превратившейся незаметно в прямое дело. Верный рано усвоенному правилу, что руководитель должен прежде и лучше руководимых знать дело, в котором он ими руководит. И вместе с тем, желая показать собственным примером, как надо служить, Петр, заводя регулярно армию и флот, сам проходил сухопутную и морскую службу с низших чинов. Он был барабанщиком в роте Лефорта, бомбардиром и капитаном, дослужился до генерал-лейтенанта и даже до полного генерала. При этом он позволял производить себя в высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского.
Н. Каразин. Петр I экзаменует учеников, возвратившихся из-за границы
Современники описывают торжественное пожалование Петра в вице-адмиралы за морскую победу при Гангуте в 1714 г., где он в чине контр-адмирала командовал авангардом и взял в плен командира шведской эскадры Эреншильда с его фрегатом и несколькими галерами. Среди полного собрания Сената восседал на троне князь-кесарь. Позван был контр-адмирал, от которого князь-кесарь принял письменный рапорт о победе. Рапорт был прочитан всему Сенату. Следовали устные вопросы победителю и другим участникам победы. Затем сенаторы держали совет. В заключение контр-адмирал, «в рассуждении верно оказанные и храбрые службы отечеству», единогласно провозглашен вице-адмиралом. Однажды, на просьбу нескольких военных о повышении их чинами, Петр не шутя отвечал: «Постараюсь, только как заблагорассудит князь-кесарь. Видите, я и о себе просить не смею, хотя отечеству с вами послужил верно; надо выбрать удобный час, чтоб его величество не прогневать; но что ни будет, я за вас ходатай, хоть и рассердится; помолимся прежде Богу, авось, дело сладится».