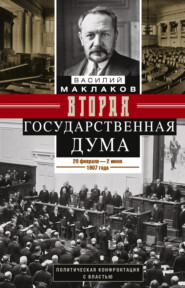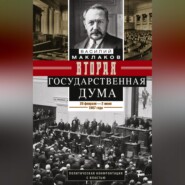По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так в 1880-х годах нам еще приходилось видать представителей отошедшей в вечность эпохи дореформенной России. Но они исчезали из государственного аппарата и из общества одновременно с богатыми усадьбами, особняками, властным поземельным дворянством и скромным «именитым купечеством». На смену им шли новые типы удачливой, предприимчивой, знавшей цену себе «демократии», которых звали тогда «разночинцами». Обострялась борьба за существование, в политике возникали «вопросы», о которых не снилось благодушным представителям старых патриархальных властей.
Конечно, среди общества были люди, которые понимали, что происходит, и мечтали сдвинуть политику в новую сторону еще тогда, когда «освободительное движение» не начиналось. Сравнивая этих людей с позднейшей эпохой, я не могу не отметить одной их особенности. Они не только не сводили всего к борьбе с самодержавием, не считали, что уничтожение его есть предварительное условие всякого улучшения. Они часто предпочитали самодержавие конституционному строю.
В 1880-х годах людей с подобными взглядами не нужно было искать только среди реакции; их можно было видеть повсюду, среди разнообразных партий и направлений. Я для иллюстрации приведу два примера совершенно различных формаций.
Возьмем среду славянофильства. Помню, с каким безусловным осуждением конституционалисты к ним относились. Они разоблачали славянофильство с не меньшей страстностью, с какой коммунисты долго клеймили социал-демократов. Социал-демократов коммунисты обвиняли за «соглашательство» с буржуазией. Славянофилов винили тогда за преданность самодержавию. Но и самодержавие относилось к славянофильству не лучше, чем конституционалисты. «Приятие» самодержавия не мешало славянофилам его политику обличать. Этого самодержавие им не прощало. Так было при Николае I, так было и позже. Александр III при вступлении на престол мог сказать А. Тютчевой несколько лестных слов по адресу статей ее мужа И. С. Аксакова, но его политике он не последовал[163 - Александр III сказал А. Ф. Тютчевой 25 марта 1881 г. во время частной аудиенции: «Я читал все статьи вашего мужа за последнее время. Скажите ему, что я доволен ими. В моем горе мне было большое облегчение услышать честное слово. Он честный и правдивый человек, а главное, он настоящий русский, каких, к несчастью, мало, и даже эти немногие были за последнее время устранены; но этого больше не будет… Я сочувствую идеям, которые высказывает ваш муж. По правде сказать, его газета единственная, которую можно читать. Что за отвращение вся эта петербургская пресса – именно гнилая интеллигенция. Она воображает, что теперь хороший случай ставить мне условия» (Тютчева А. Ф. При Дворе двух императоров: дневник 1855–1882. М., 1929. С. 225).]. А вдохновителей реакции славянофильская критика того времени била больнее, чем конституционные аргументы; точно так, как для коммунистов обличения социал-демократов теперь чувствительней, чем негодование легитимистов.
Вспоминая позицию славянофилов в эпоху восьмидесятых годов, я не могу признать, чтобы нападки на них были ими заслужены. Стремление славянофилов исправить самодержавие могло быть полезно. Сужу так потому, что в мои юные годы мне пришлось близко знать одного незаурядного славянофила, Павла Дмитриевича Голохвастова.
Он был нашим ближайшим соседом по имению и местным мировым судьей. Был сыном того Д. П. Голохвастова, близкого родственника А. И. Герцена, который при Николае I был попечителем Московского учебного округа и о личности которого Герцен в «Былом и думах» сообщил много ядовитого[164 - «Когда Дмитрий Павлович, – писал А. И. Герцен в «Былом и думах», – был назначен в университет, я думал точно так, как князь Сергий Михайлович [Голицын] (попечитель Московского университета и Московского учебного округа в 1830–1835 гг. – С. К.), что это будет очень полезно для университета; вышло совсем напротив. Если бы Голохвастов тогда попал в губернаторы или в обер-прокуроры, весьма можно предположить, что он был бы лучше многих губернаторов и многих обер-прокуроров. Место в университете было совсем не по нем; свой холодный формализм, свое педантство он употребил на мелочное, пансионское управление студентами; такого вмешательства начальства в жизнь аудитории, такого педельства на большом размере не было при самом [А. А.] Писареве (попечитель Московского университета и Московского учебного округа в 1820–1830 гг. – С. К.). И тем хуже, что Голохвастов сделался в нравственном отношении то, что были [А. Н.] Панин (граф, помощник попечителя Московского университета и Московского учебного округа в 1831–1833 гг. – С. К.) и Писарев для волос и пуговиц. Прежде в нем было, при всем можайско-верейском торизме его, что-то образованно-либеральное, любовь к законности, негодование против произвола, против чиновничьего грабежа. С вступления в университет он становился ex officio [по должности (лат).] со стороны всех стеснительных мер, он считал это необходимостию своего сана. Время моего курса было временем наибольшей политической экзальтации; мог ли же я остаться в хороших отношениях с таким усердным слугою Николая [I]? Формализм его и это вечное священнодействие, mise en scene себя [стремление показать себя в каком-то особом свете (фр.)] иногда вводили его в самые забавные истории, из которых, вечно занятый сохранением достоинства и постоянно довольный собой, он не умел никогда ловко вывернуться. Как председатель Московского ценсурного комитета он, разумеется, тяжелой гирей висел на нем и сделал то, что впоследствии книги и статьи посылали ценсировать в Петербург» (Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 193).]. Голохвастов жил в Покровском, одном из дворянских гнезд Московской губернии, где не раз гостил Герцен. После смерти П. Д. Голохвастова это имение было куплено С. Т. Морозовым. Он отремонтировал его на современный лад, с проведением воды, электричества и телефона. К слову сказать, тот же С. Морозов купил и полностью уничтожил знаменитый дом И. С. Аксакова на Спиридоновке с громадным садом, в котором в самом центре Москвы можно было слушать весной соловьев. На месте этого дома был построен особняк-замок Морозова; старый сад был вырублен, вычищен и превращен в английский парк. Так символически прежнее родовое дворянство уступало место разбогатевшей буржуазии. В деревне Савва Морозов был менее радикален; он сохранил старый каменный дом и только пристроил к нему новое здание, более современного стиля. Во всем хозяйстве появился порядок. С крестьянами было произведено размежевание, восстановлены настоящие границы владения; все окопано канавами и обнесено межевыми столбами; закрыты самовольные дорожки через барскую землю; проселки везде заменились шоссейной дорогой, на канавах и речках поставлены мосты из железа, болота осушены, сторожки лесных сторожей превращены в каменные дома с железными крышами; словом, везде проступало цивилизующее могущество капитала. Прежний запущенный сад был приведен в образцовый вид, и только в качестве реликвии сохранена часть старого каменного забора в одном углу этого сада. С этого забора, по просьбе Ф. Родичева, я снял фотографию для Общества имени Герцена[165 - Имеется в виду Общественно-литературный кружок имени А. И. Герцена, который существовал в Петербурге (Петрограде) с 1907 по 1917 г. и, по мысли его основателей, представлял собой «кружок прогрессивный по направлению, но вполне беспартийный», причем деятельностью кружка руководили его Совет и Бюро. В задачи кружка входили научное изучение жизни и творчества Герцена, издание специальных герценовских сборников, собирание библиотеки Герцена из его книг и литературы о нем и создание в Петербурге музея Герцена. Подробнее см.: Ермичев А. А. Немногое об истории кружка имени А. И. Герцена // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2012. Т. 13. Вып. 3. С. 132–135.]; забор видал еще Герцена. Голохвастовы свято чтили память своего отца; у него была известная слабость к рысистым лошадям; его гордостью был знаменитый Бычок, о котором вспоминает и Герцен[166 - Характеризуя Д. П. Голохвастова, А. И. Герцен писал: «Во внутренней жизни его в продолжение его кураторства все шло благополучно, т. е. в свое время являлись на свет дети, в свое время у них резались зубы. Именье было ограждено законными наследниками. Сверх того, еще одно лицо обрадовало и согрело последние десять лет его жизни. Я говорю о приобретении Бычка, первого рысака по бегу, красоте, мышцам и копытам не только Москвы, но и всей России. Бычок представлял поэтическую сторону серьезного существования Дмитрия Павловича. У него в кабинете висели несколько портретов Бычка, писанных масляными красками и акварелью. Как представляют Наполеона – то худым консулом, с длинными и мокрыми волосами, то жирным императором с клочком волос на лбу, сидящим верхом на стуле с коротенькими ножками, то императором, отрешенным от дел, стоящим, заложив руки за спину, на скале середь плещущего океана, – так и Бычок был представлен в разных моментах своей блестящей жизни: в стойле, где он провел свою юность, в поле – свободный с небольшой уздечкой, наконец, заложенный едва видимой, невесомой упряжью в крошечную коробочку на полозьях, и возле него кучер в бархатной шапке, в синем кафтане, с бородой, так правильно расчесанной, как у ассирийских царей-быков, – тот самый кучер, который выиграл на нем не знаю сколько кубков Сазиковой работы, стоявших под стеклом в зале» (Герцен А. И. Указ. соч. С. 199–200).]. Подлинное стойло Бычка с такой памятной надписью, которую можно сейчас увидать на домах, где жили или умерли великие люди, сохранялось Голохвастовыми до самой их смерти. На месте этой конюшни Морозов построил другую, образцовую, с последним словом комфорта, о котором в свое время не снилось Бычку. П. Д. Голохвастов жил в своем родовом имении вместе со своим братом Д. Д. Голохвастовым, предводителем[167 - П. Д. Голохвастов был звенигородским уездным предводителем дворянства.] и деятелем эпохи Александра II, общепризнанным лучшим оратором этого времени, сказавшим когда-то на Московском дворянском собрании нашумевшую речь вольного, хотя и чисто дворянского содержания, за что был по высочайшему повелению лишен предводительства и выслан в деревню[168 - Историю с Д. Д. Голохвастовым В. А. Маклаков излагает неверно. Действительно, выступая в январе 1865 г. на Московском губернском дворянском собрании, он именовал окружение Александра II «опричниной» (Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850 – середина 1870-х гг. М., 2002. С. 176). Более того, Д. Д. Голохвастов явился одним из инициаторов Адреса московского дворянства на высочайшее имя, принятого в заседании Дворянского собрания 11 января 1865 г. большинством 270 против 36 голосов. В адресе заключалась просьба «довершить государственное здание созванием общего собрания выборных людей от Земли Русской, для обсуждения нужд, общих всему государству», а также «второго собрания из представителей одного дворянского сословия». В ответ Александр II издал Рескрипт на имя министра внутренних дел П. А. Валуева, в котором говорилось: «Мне известно, что во время своих совещаний Московское губернское дворянское собрание вошло в обсуждение предметов, прямому ведению его не подлежащих, и коснулось вопросов, относящихся до изменения существенных начал государственных в России учреждений. Благополучно совершившиеся в десятилетнее мое царствование и ныне по моим указаниям еще совершающиеся преобразования достаточно свидетельствуют о моей постоянной заботливости улучшать и совершенствовать, по мере возможности и в предопределенном мной порядке, разные отрасли государственного устройства. Право вчинания по главным частям этого постепенного совершенствования принадлежит исключительно мне и неразрывно сопряжено с самодержавной властью, Богом мне вверенной. Прошедшее в глазах всех моих верноподданных должно быть залогом будущего. Никому из них не предоставлено предупреждать мои непрерывные о благе России попечения и предрешать вопросы о существенных основаниях ее общих государственных учреждений. Ни одно сословие не имеет права говорить именем других сословий. Никто не призван принимать на себя передо мной ходатайство об общих пользах и нуждах государства. Подобные уклонения от установленного действующими узаконениями порядка могут только затруднять меня в исполнении моих предначертаний, ни в каком случае не способствуя достижению той цели, к которой они могут быть направлены. Я твердо уверен, что не буду встречать впредь таких затруднений со стороны русского дворянства, вековые заслуги которого пред престолом и отечеством мне всегда памятны и к которому мое доверие всегда было и ныне пребывает непоколебимым. Поручаю вам поставить о сем в известность всех генерал-губернаторов и губернаторов тех губерний, где учреждены дворянские собрания или имеют быть учреждены собрания земские». Однако в сентябре 1865 г. Д. Д. Голохвастов, остававшийся звенигородским уездным предводителем дворянства, был в числе немногих лиц, принятых Александром II в его подмосковном имении Ильинском, причем именно как «один из запальчивейших ораторов Московского дворянского собрания, говоривших в пользу адреса». «Я вызвал тебя, как здешнего предводителя, – сказал император Д. Д. Голохвастову, – хотя я должен был бы на тебя сердиться, но я не сержусь и хочу, чтобы ты сам был судьей в своем деле. Подумай и скажи, каково мне было знать, что ты публично, при всей зале, позоришь именем “опричников” тех людей, которых я удостоил доверия…». Д. Д. Голохвастов просил позволения объяснить употребленное им выражение. «Говори правду, я всегда охотно ее слышу», – ответил Александр II. Д. Д. Голохвастов уверял, что под словом «опричники» он подразумевал не опричников Ивана IV Грозного, а все, что по своим стремлениям стоит «опричь земщины», т. е. вне или в стороне от народа. «Важно не слово, а дело, – заметил император. – Что значила вся эта выходка… Чего вы хотели? Конституционного образа правления?» Выслушав утвердительный ответ Д. Д. Голохвастова, Александр II продолжал: «И теперь вы, конечно, уверены, что я из мелочного тщеславия не хочу поступиться своими правами! Я даю тебе слово, что сейчас, на этом столе, я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски. А ведь этого и вы не хотите. Еще в прошлом году вы сами и прежде всех мне это сказали». Эти слова относились к Адресу московского дворянства по поводу Польского восстания 1863–1864 гг. Напоследок император заметил: «Главное – не гоняйся за аплодисментами, за успехами красноречия, ведь, право, не стоит того!..» – «Аплодисменты, государь, относились не ко мне, – возразил Д. Д. Голохвастов, – их мог вызвать каждый в зале, стоило вас назвать – и стены дрожали от аплодисментов». – «Да, я знаю, – заметил Александр II с улыбкой, – ну, с Богом, прощай!» (Татищев С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование: В 2 кн. М., 1996. Кн. 1. С. 580–581, 590–591). Таким образом, выступление Д. Д. Голохвастова на Московском губернском дворянском собрании никаких неблагоприятных последствий не имело.]. Об удивительном красноречии этого человека я потом слыхал от Л. Н. Толстого. В то время, которое я помню, он был уже руиной, разбитым параличом и совершенно глухим. Его возили на коляске и с ним разговаривали лишь по запискам. Он прошел мимо моего наблюдения. Зато его брата П. Д. я помню отлично, и он был сам интересной фигурой.
Широко образованный по понятиям того времени, говоривший свободно на четырех языках, исколесивший все европейские страны, по внешности и манерам он представлял истинный тип европейца. Он и в деревне ходил не иначе как в европейском костюме, с крахмальным воротничком, охотно разговаривал на иностранных наречиях, был знатоком французских вин и курил только дорогие сигары. Со всем тем он был одним из могикан славянофильства. Он изъездил Европу только затем, чтобы прийти к заключению, что Россия выше всего. Это предпочтение сказывалось во всех мелочах. У него была удивительная память на тексты, и на стихи, и на прозу. Он любил говорить о превосходстве русской литературы, цитировать на память баллады Шиллера, а потом их же в переводе Жуковского и тонко доказывал, насколько перевод выше подлинника. Он всегда с радостью отмечал всякое русское преимущество. Он рассказывал, как ездил к Герцену объясняться за несправедливость, которую тот допустил в оценке его отца, Д. П. Голохвастова. Он уверял, будто Герцен это признал и перед ним извинился. Но, рассказывая об их разговоре, он с особенным удовольствием передавал, как, увлеченный воспоминаниями о России, Герцен сказал: «Вот вам крест, – и уже начал крестное знамение, но, поймав себя на таком несовременном жесте и выражении, улыбнулся и, протянув ему руку, окончил: – вот вам моя рука: если бы я мог знать наверное, что, вернувшись в Россию, буду сослан в Сибирь, но смогу пережить время ссылки и вернуться в Россию живым, даю вам слово, что тотчас бы вернулся». Голохвастов много занимался русской историей; писал ряд монографий[169 - Известна следующая опубликованная историческая работа П. Д. Голохвастова: Земское дело в Смутное время // Русь. 1883. 3 янв. – 8 апр. См. также его книгу: Законы стиха русского народного и нашего литературного: опыт изучения. СПб.: О-во любителей древней письменности, 1883.]. У него была полемика с В. О. Ключевским о древнерусском «кормлении». Голохвастов доказывал, что термин «кормление» происходит не от слова «кормиться»; мысль, будто верховная власть посылала чиновников «кормиться» от населения, ему казалась кощунством над русскою стариной. Термин «кормление» он выводил от корня «корма», «кормчий», что значило – управление. Власть посылала не «кормиться», а «управлять»[170 - См. очерк П. Д. Голохвастова «Боярское кормление» (Русский архив. 1890. Вып. 6. С. 209–248). В этой статье П. Д. Голохвастов полемизировал не только с В. О. Ключевским, но и с Д. И. Иловайским.]. В полемике с Голохвастовым Ключевский был очень резок по его адресу. Судьба их свела потом в нашем доме; не знаю, была ли встреча приятна обоим, но они скоро разговорились, увлеклись и заспорили. Целый вечер препирались о значении слова «бобыль». Но Голохвастов не только занимался историей. Однажды он чуть не сделал большого политического дела в России. Я мальчиком присутствовал при его рассказе о несостоявшемся Земском соборе 1882 года, который был затеян министром внутренних дел гр[афом] Игнатьевым, за что он и должен был выйти в отставку. По словам Голохвастова, идея Земского собора принадлежала ему[171 - Признание П. Д. Голохвастова соответствовало действительности. И. С. Аксаков писал графу Н. П. Игнатьеву 10 января 1882 г.: «Моя искренняя вера в Вас, как единственного человека, который ‹…› является представителем национального исторического направления, побуждает меня просить Вас ‹…› нет, не просить, а настаивать, чтобы Вы прочли со вниманием мое письмо и улучили бы час-два времени для конфиденциальной беседы с подателем сего Павлом Дмитриевичем Голохвастовым». Далее И. С. Аксаков останавливался на характеристике настроения умов, указывая на существующую опасность, которую неспособны предотвратить намеченные правительством меры. По его словам, основная опасность заключалась в том, что все политические течения, начиная от аристократов и кончая нигилистами, стремятся к конституции, но «дать конституцию царь не может: это было бы изменой народу, предательством» и привело бы Россию к гибели. Однако «есть выход из положения, способный посрамить все конституции в мире, нечто шире и либеральнее их и в то же время удерживающее Россию на ее исторической, политической и национальной основе. Этот выход – Земский собор с прямыми выборами от сословий: крестьян, землевладельцев, купцов, духовенства. Теперь представляется к этому повод – коронация. Присутствие тысячи выборных от крестьян заставит, без всякого иного понуждения, смолкнуть всякие конституционные вожделения и послужит лишь к всенародному перед всем светом утверждению самодержавной власти в настоящем народном историческом смысле. Как воск от огня, – восклицал И. С. Аксаков, – растают от лица народного все иностранные, либеральные, аристократические, нигилистические и тому подобные замышления». Далее И. С. Аксаков указывал, что как только будет объявлено царем о предстоящем созыве Земского собора, то всякая опасность для императора исчезнет – он спокойно сможет ехать в Москву, никого не боясь, так как нигилизм будет «мигом парализован». Охарактеризовав значение Земского собора, И. С. Аксаков переходил к практическим вопросам его организации: «Но что такое Земский собор? Как его устроить? Вот для этого и посылаю к Вам П. Д. Голохвастова, уже 15 лет лелеющего в себе эту мысль и разработавшего ее во всех подробностях, которые им изложены даже письменно» (цит. по: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг. М., 1964. С. 452–453).]. Я был тогда слишком мал, чтобы понять интерес этого рассказа. Но не раз его вспоминал, когда в оглашенных в последнее время документах стал встречать упоминания о роли П. Голохвастова в этой попытке[172 - Вероятно, В. А. Маклаков имеет в виду обширную переписку П. Д. Голохвастова с И. С. Аксаковым относительно созыва Земского собора (Русский архив. 1913. Кн. 1–2), а также воспоминания Е. М. Феоктистова (см.: Феоктистов Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Л., 1929. С. 204–211). В. А. Маклаков мог ознакомиться и с датированным 6 мая 1882 г. проектом Манифеста о созыве Земского собора (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М., 1925. Т. 1. Пт. 1. С. 261–262) и с реакцией на этот проект К. П. Победоносцева (Письма К. П. Победоносцева к Александру III. М., 1925. Т. 1. С. 379–381, 383, 385). См. также: П. Д. Голохвастов о русском государственном строении и Земском соборе // Русский вестник. 1905. Кн. 2. С. 745–762; Игнатьев Н. П. Земский собор. СПб.; Кишинев, 2000.].
Восстанавливая в памяти фигуру этого Голохвастова, я не могу его зачислить в разряд ретроградов. Этот взгляд был бы слишком упрощен. В 1882 году Голохвастов чуть не устроил Земского собора в России; он постоянно негодовал на стеснения совести, слова и печати; был по религиозным мотивам непримиримым противником смертной казни. При добрых личных отношениях с правящими сферами, в частности с Победоносцевым, он возмущался их политической линией, считая, что она губит монархию. Он вообще стоял за личность и за свободу. Как славянофил он не был противником общины, но возмущался той властью, которую государство в своих интересах дало сельскому обществу над отдельными членами, негодовал на «проклятую» круговую поруку. Он беспощадно клеймил крестьянских «ростовщиков» и «кабатчиков», настаивал на лишении их всяких избирательных прав, как представителей, может быть, необходимого, но «нечестного» занятия, которое можно терпеть, но не оправдывать; но горячо защищал зажиточных крестьян, по большевистской терминологии – кулаков, достигших достатка честным трудом; я помню, как он возмущался уничтожением мирового суда[173 - Упразднение мирового суда последовало в результате введения в действие Положения о земских участковых начальниках 1889 г., на которых, помимо административных, были возложены и судебные функции мировых судей.] и как горько пенял на Александра III, которого считал не волевым, не сильным, а только упрямым. Припоминаю его отзыв о реформе 1889 года, о земских начальниках. Его утешала только вера в благородство русской души, которую не надо смешивать с модной ?me slave[174 - славянской душой (фр.).]. В Европе, говорил он, земские начальники просто восстановили бы крепостное право; у нас они будут стараться принести посильную пользу крестьянам, но принесут только вред. Многие взгляды Голохвастова сближали его с либерализмом; но, горячо порицая политику Александра III, Голохвастов оставался убежденным сторонником самодержавия. Он считал конституционный порядок гибелью для России и началом развращения общества. Он осуждал русских либералов, самых честных его представителей, вроде Арсеньева, Стасюлевича. «Вестник Европы», с его европейскими взглядами, был, по его выражению, только помоями, которые с корабля выливают на море. Это – грязь, но грязь лишь наносная, под нею чистое народное море, которое этой грязью не замутить.
Когда я был студентом, мне часто приходилось разговаривать с Голохвастовым; и уже тогда я становился в тупик перед вопросом, куда его отнести: к «реакции» или к «прогрессу»? Правда, он был поклонником самодержавия, и это казалось большим недостатком; но самодержавию он поклонялся лишь потому, что одно самодержавие, по его мнению, было способно служить народу «действенно» и «бескорыстно». Такой мотив с Голохвастовым примирял. К тому же Голохвастов не принимал самодержавия без самоуправления. Он любил напоминать, что и местное самоуправление, и общерусский Земский собор впервые расцвели именно при таком идеалисте самодержавья, каким был Иван Грозный. Голохвастов мистически верил, что глас народа – глас Божий, и потому верил в Земский собор. Земский собор, по его мнению, ошибаться не мог. Он как-то прочел свое сочинение (не знаю, было ли оно напечатано) о Соборе 1598 года, который избрал Годунова на царство[175 - Насколько известно, это сочинение П. Д. Голохвастова напечатано не было.]. Голохвастов держался на Годунова отброшенных теперь наукой взглядов. Он считал избрание недостойного Годунова ошибкой, но не мог допустить, чтобы Земский собор смог ошибиться. И потому он пришел к парадоксальному выводу, будто Земский собор был подтасован, что его не было вовсе, а что только потом по позднейшим образцам от имени Собора написали подложную грамоту. Все это Голохвастов доказывал кропотливым изучением текста грамоты и состава Собора. Но признавая, что «глас народа – глас Божий», Голохвастов не считал гласом народа простое мнение его большинства. В этой замене одного понятия совершенно другим, в раболепном преклонении перед принципом большинства, т. е. перед цифрой, он видел всю зловредную «ложь конституции». Из погони за числом голосов развивается политический разврат нашего времени, необходимость партий, партийной дисциплины, обязательной партийной лжи и т. п. Царь не может идти против народа, думал Голохвастов. Перед его единодушием он всегда преклонится. Отличием Земского собора от парламента должно было быть требование единогласия; только оно для царя обязательно. Но если единогласия нет, нет и голоса народа; есть только отдельные мнения. Из них – и это отличие от liberum veto[176 - Свободное вето (лат.) – конституционная традиция в Речи Посполитой (Польско-Литовском государстве) XVI – XVIII вв., заключавшаяся в том, что при принятии решения общегосударственным сеймом и провинциальными сеймиками один сеймовый посол, голосуя против, полностью отменял голосование за.] – царь по разуму и совести свободен выбирать то, которое считает полезнее. В этом и состоит истинное дело царя, быть арбитром; такой способ решения разномыслия разумнее, чем механический подсчет голосов.
Вот чему верил Голохвастов; пусть это идиллия, над которой «умные» люди позднее смеялись. Это не мешает тому, что в критической части славянофильства были верные мысли. Их идеал был сам по себе беспощадным обличением нашего полицейского самодержавия, при котором в стране не могло образоваться ни общего народного голоса, ни даже отдельных мнений. Учение славянофилов в сравнении с тем, что было в России, вело Россию вперед, не назад. А что касается до их критики конституционного строя, то восстание против принципа большинства, как ultima ratio[177 - последний довод (лат.).] для разрешения спора, против замены «разума» голосующих «партийной дисциплиной» указывало на действительно слабые стороны народоправства. Эти стороны, может быть, его неизбежное зло, но все-таки зло, которого нет смысла скрывать.
Но со славянофильством можно было не церемониться; с момента своего возникновения оно встречало насмешки. Наконец, оно не было народным движением, не выходило за пределы верхушки интеллигенции. Среди общественных настроений оно могло считаться quantitе nеgligeable[178 - незначительной величиной (фр.).]. Но возьмем другое течение, более популярное в толще демократической интеллигенции, вышучивать которое решился только агрессивный юный марксизм, это – народничество. А это течение при всей ненависти к режиму, который установился в России, тоже не видело единственного спасения в конституции. По этому поводу я хочу вспомнить об одном москвиче – Л. В. Любенкове, о котором молодое поколение не знает и никогда не узнает. Любенков в «историю» не перешел; он болезненно боялся всякой рекламы; нельзя было бы представить себе его сообщающим журналистам о том, как он «живет и работает»; он убежал бы от попытки устроить ему какое-либо публичное юбилейное чествование. Лишь когда он был разбит параличом и в [Московской] городской думе был поставлен вопрос о назначении ему пенсии, его имя и перечень его заслуг перед городом попали в печать. Можно было тогда увидеть редкое зрелище, как на исключительном уважении к Любенкову сошлись все решительно гласные. Он скоро скончался, и никто пышных некрологов ему не посвятил. Но москвичи, особенно судьи, его не забудут. Если можно делить всех людей на честолюбцев (спортсменов) и праведников, Любенков был праведником общественной деятельности. Сам он оставался в тени, выдвигал вперед молодых, уклонялся от ответственных должностей, но по моральному авторитету был вождем и учителем. При нем становилось стыдно «мелких помыслов и мелких страстей»[179 - Цитируется строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).]. Наблюдая его, я понимал влияние тех людей, кого народная память называла «святыми».
Любенков был состоятельным тульским помещиком Богородицкого уезда, гласным губернского земства и бессменным мировым судьей Пречистенского участка в Москве. На службе земству и мировому суду прошла вся его долгая жизнь. В Гранатном переулке у него был маленький домик с большим садом, смежным с садом Саввы Морозова по Спиридоновке. Сад давал ему иллюзию жизни в деревне. Это было только последовательно, так как в нем самом не было ничего городского. Когда часов в 5 он пешком возвращался из камеры[180 - Имеется в виду камера мирового судьи – его служебное местопребывание.], он снимал европейский костюм, облекаясь в поддевку, из которой уже не вылезал. Он никогда не выезжал, но его дом был всегда полон народу. К обеду приходили незваные; все проходили через кухню, с черного хода[181 - В своих более поздних мемуарах В. А. Маклаков уточнял: «Старик Любенков возвращался из камеры мирового судьи около 5 часов, надевал домашний костюм, то есть поддевку, и садился за обеденный стол; к нему приходили кто хотел, без приглашений и предупреждений. Это было у него время приема гостей. Ходили все через кухню: парадный вход был для чужих. За этим столом я перевидал многих будущих деятелей и Освободительного движения, и Конституции, Н. И. Астрова, Н. Н. Щепкина, В. Н. Челищева, И. И. Шеймана и много других; они встречались здесь с нами, более молодым поколением. Это было уже появление “земских людей”, когда я сам был еще только студентом» (Маклаков В. А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917. М., 2006. С. 139).]. Если раздавался звонок с парадного подъезда, в доме поднимался переполох; это значило – чужие, непривычные гости. Тогда бежали зажигать лампы в передней. Старики уходили встречать гостей, наглухо запирали двери туда, где оставалась одна молодежь, и возвращались потом с облегченным вздохом: беда миновала.
Этот непритязательный, скромный старик был иллюстрацией поговорки, что человек красит место. Там, где он был и работал, он становился немедленно авторитетом и центром. В земстве он был председателем редакционной комиссии, и эта комиссия стала инстанцией, которая направляла всю земскую жизнь. В Москве он по средам сидел в составе мирового судейского съезда, и в этот состав съезда тотчас ради него стали направляться все сложнейшие съездовые дела. В Любенкове ценили не только тонкий юридический ум, но и исключительную независимость совести; его нельзя было бы поймать ни на какую уловку. Он стал идеалом мирового судьи; своим обаянием создал школу и был непререкаемым авторитетом в спорных вопросах.
Отношение Любенкова к людям было интересно сравнить с голохвастовским. Тот, образованный европеец, тоже предпочитал всему русского человека, но даже мне, мальчику, было понятно, что это потому, что в русском человеке он видит свой идеал, свое сочинение. Любенков же любил свой народ, каким он действительно был; он его не идеализировал, но зато и неспособен был бы его разлюбить за его недостатки. У него, как у мирового судьи, было обширное поле для наблюдения, и он был мастером наблюдать и рассказывать. Эти рассказы всегда дышали непоколебимым доброжелательством к русскому человеку во всех его проявлениях. Он умел отыскивать залог хорошего в самом дурном, а законную досаду смягчать добродушной усмешкой. Он одинаково беззлобно подтрунивал и над бестолковостью некультурных людей, и над горделивой претензией самодовольного «барина». Он понимал, что нравы сильнее законов, что надо себя долго воспитывать, чтобы отделаться от старых привычек. Несмотря на встряску шестидесятых годов, в людях еще сохранялись прежние следы и «рабства», и «барства»; они то и дело вылезали наружу в причудливых формах. К этим чертам Любенков относился без озлобления, так как они были естественны, но и без снисхождения; они мешали России двигаться дальше. Постепенно победить эти пережитки в себе и других казалось ему главной задачей. Этого он достиг в своем доме; в нем установилась особая атмосфера, которую редко где можно было встретить.
Любенкова коробило все показное; коробил и показной демократизм. Он счел бы проявлением «барства» демонстративную подачу министром руки швейцару, в чем в первые дни [Февральской] революции видели символ прогресса. Но Любенков был тем естественным демократом, который не мог ни в чем ни проявить «сословного» предрассудка, ни задеть чужого достоинства. В его доме все были равны. Прислуга чувствовала себя домочадцами, по привычке говорила «ты» молодым господам, а подруг дочери безразлично величала «красавицами». Никого в доме не шокировало и не удивляло, когда прислуга принимала участие в разговоре господ.
Любопытно было отношение Любенкова к молодому поколению. У него было два сына и дочь[182 - Известно, что у Л. В. Любенкова было два сына – Лев и Владимир.], и дом был всегда полон их друзьями и гостями. У стариков был культ молодежи; не тот лицемерный и льстивый культ, который можно наблюдать в Советской России, где молодежь сознательно развращают, чтобы иметь ее на своей стороне. Любенков был убежден, что молодое поколение и лучше, и умнее, чем он, что надо только ему не мешать, не стараться переделывать его на свой образец. Он по-стариковски сразу начинал говорить всем нам «ты», но никогда ничем не старался нам импонировать. Когда между нами происходили споры, он подходил незаметно из-за двери послушать, но в спор не вступал. Изредка, с извинениями, что он, старик, себе позволил вмешаться, говорил свое мнение и поскорее уходил, повторяя: «Где мне с вами спорить!» Сверстники Любенкова говорили, что он был превосходным оратором; нам этого таланта видеть не приходилось; с нами он только разговаривал, при этом как бы всегда извиняясь пред нами добродушной улыбкой. Только случайно он как будто забудется, голос его станет строгим, отрывистым, даже властным, и мы видели, как он мог и спорить, и бороться, когда спорить хотел.
Старик Любенков, его дети, их близкие друзья и товарищи были по направлению тем, что в широком смысле называлось «народничеством». Целью их жизни было служить народу. Один его сын был, как и отец, мировым судьей, другой – земским врачом; дочь была фельдшерицей и вышла замуж за земского доктора. Раньше у них был большой кружок сверстников, который поставил задачей: всем идти на земскую службу, заполонить целый уезд на разных постах – медиками, учителями, агрономами и т. д. Они так и сделали; захватили почти целиком в свои руки Богородицкий уезд Тульской губернии. Другие в других губерниях и уездах, но делали одно и то же дело: служили народу по земству. Эта служба казалась им самой полезной и самой главной; все остальное в свое время придет.
Любенковы сошли со сцены и кружок их распался еще до «освободительного движения». Трудно предвидеть, как бы этот кружок отнесся к увлечениям того времени. Но в то время, когда я его помню, лозунг «долой самодержавие» его не захватил бы; он нашел бы этот лозунг слишком упрощенным, книжным, не народным, словом, «барским» и «интеллигентским». В этом отношении кружок Любенковых был не моего поколения[183 - Вспоминая позднее свой «переход от “студенчества” в “общество”», В. А. Маклаков писал: «Первым шагом на этой дороге сделалось мое сближение с кружком Любенкова. О самом старике, патриархе мировых судей Москвы, я говорил в книге “Власть и общественность”. Сейчас буду говорить не лично о нем. Меня привел к нему Н. В. Черняев, с которым я познакомился через толстовцев и который становился в это время самым близким другом моим. Кружка, который группировался когда-то около семьи Любенкова, его дочери и сыновей, я уже не застал; памятью о нем оставалась только фотография его членов. Они все по всей России разъехались на работу. Раз на охоте в Воронежской губернии у своего товарища Богушевского я увидел на стене эту группу, где я узнал Тумановского, бывшего в то время уже председателем Задонской уездной управы. Жизнь разбросала повсюду первоначальных членов кружка, но его традиции сохранились. Они все были “народолюбцы”, тем, что тогда называлось народничеством. Их задачей было народу служить так, как он сам от них этого ждал; они не претендовали создавать “авангард” и быть в нем “руководящим ядром”. Не считали, что крестьянин есть мелкий буржуй, что будущее России в индустриальных рабочих и пролетариате. По теперешним взглядам этот кружок был уже “отсталым явлением”. Когда позднее появились марксисты, вели споры с народниками, и Туган-Барановский доказывал в Юридическом обществе пользу для государства высоких цен, кружок был на стороне “старовера” А. И. Чупрова, который защищал служение непосредственным интересам народа, по его пониманию. Кружок был вдохновлен реформами [18]60-х годов. В их рамках он хотел быть России полезным. Он не думал, что введение конституции и четыреххвостки в России было бы сейчас не только волей, но и пользой народа. Сплоченного кружка уже не было, когда Освободительное движение началось; не могу судить, как бы они с его лозунгами к нему отнеслись. ‹…› Мое сближение с этим кружком было первым соприкосновением с так называемым обществом» (Там же. С. 138–139).].
Сами старики помнили шестидесятые годы и сохранили культ к Александру II. В Туле ставили памятник этому государю, и Любенков был приглашен на торжество[184 - Бюст Александра II, изваянный скульптором Н. А. Лаверецким, был установлен на мраморном постаменте в Уголовной зале здания Тульского окружного суда, где проходили судебные процессы с участием присяжных заседателей. Торжественное открытие этого памятника, приуроченное к 20-летию открытия Тульского окружного суда, произошло 29 октября 1886 г.]. Уклониться он не хотел, но рассчитывал остаться в тени. Этого ему не удалось, губернатор Зиновьев его спровоцировал[185 - В действительности тульским губернатором в это время являлся С. П. Ушаков. Н. А. Зиновьев был его преемником с 1887-го по 1893 г.]. Официальную речь свою он неожиданно кончил словами: «А о том, что сделал Александр II, пусть вам расскажет тот, кто лучше всех это сможет: Лев Владимирович Любенков». Отказаться было нельзя, и Любенков заговорил. Эту речь он нам передавал; другие рассказали о произведенном ею впечатлении. Выходя на трибуну, Любенков не знал, что он скажет. Но памятник Александру II, воздвигнутый в эпоху реакции, его воодушевил. Как он говорил, что-то сдавило ему горло, и он начал сразу повышенным тоном, указывая на бюст Александра II: «Великая тень великого прошлого встала перед нами – смотрите!» Последовала вдохновенная импровизация, которая вышла цельной потому, что все ее мысли были давно глубоко продуманы. Этому прошло столько времени, что в памяти моей сохранился только общий план речи и отдельные фразы. Любенков превозносил Александра II за то, что он обновил русскую жизнь «идеями» свободы и самоуправления. Он противопоставлял «идеям» то, что из них «на практике» получилось. Александр II был изображен как настоящий идеалист, ученик идеалиста Жуковского. Любенков картинно изображал его реформаторскую деятельность. «Он дал народу свободу», – говорил Любенков. «Но как же управлять им, ваше величество?» – с удивлением спрашивали его приближенные. И Александр отвечал: «Пусть управляется сам», и создал сельское и волостное самоуправление, волостные суды. Потом по тому же образцу для всех создал бессословное земство, университетскую автономию, судебную независимость. Наконец, он понес свободу и за границу; освободил славян на Балканах. И на прежний вопрос, как им управлять, сказал те же слова: «Пусть управляются сами», и дал им конституцию[186 - Подразумевается согласие Александра II на введение в 1879 г. Тырновской конституции в Болгарии, освобожденной от турецкого ига в результате Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.]. Любенков кончал выводом: «Все, что было великого в шестидесятых годах, все великие идеи были провозглашены им, Александром II; а в том, что из этого вышло, виноваты только мы сами». Пусть этой юбилейною речью Александр II был поставлен на высоту, им не заслуженную. Но величие идей шестидесятых годов и идейный упадок позднейшей политики были им изображены так убедительно, что сам губернатор со слезами в голосе повторял заключительные слова: «Да, мы, мы виноваты».
Такого культа Александра II молодое поколение, собиравшееся у Любенковых, уже не знало. Но от мысли, что просвещенный абсолютизм не сказал своего последнего слова, оно не отказывалось. Конечно, самоуправление оставалось его главной верой. Сельский сход, крестьянская община, которая еще не потеряла своего обаяния, в представлении людей этого настроения были неприкосновенны; следующим этапом, который народу надлежало пройти, было всесословное земство. Сфера местных непосредственных интересов была народу доступна, и в ней он мог быть хозяином. Но зато сразу сделать народ вершителем судеб всего государства значило оказать народу плохую услугу, отдать его в руки демагогии; самодержавие еще должно было на общее благо сплачивать самоуправляющийся народный мир в государство, не деля своей верховной власти с «барским» парламентом. Эти «демократические» настроения, которые не были враждебны самодержавию, в кружке Любенковых сохранялись долго. Помню споры после злополучной речи Николая II о «бессмысленных мечтаниях»[187 - Имеется в виду речь Николая II, сказанная им 17 января 1895 г. в Николаевском зале Зимнего дворца при приеме депутаций от дворянства, земства и городов. «Я, – сказал тогда император, – рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный, покойный родитель» (Николай II. Полное собрание речей. 1894–1906. СПб., 1906. С. 7).]. Ею все возмущались; возмущались и тем, что молодой император сказал это старым людям, которые приехали для поздравления. Но сын Любенкова, убежденный народник, земский врач Владимир Львович выступил с другой точкой зрения. Он прочел доклад, около которого и завязались страстные прения. «Если дело в невежливой фразе, – говорил Владимир Львович, – этой “шаркунской” оценки оспаривать я не буду. Я просто с ней не считаюсь. Когда речь идет о таком гигантском принципе, как самодержавие, рассматривать его с точки зрения “светских манер” смешно». Но спор, по существу, за самодержавие Любенков готов был принять. И такой спор мог происходить в 1895 году, и защиту самодержавия мог брать на себя человек такой исключительной искренности, каким был молодой Любенков! Еще удивительней, что в данном вопросе старик Любенков поддерживал позицию сына. Через 40 лет я не помню всех доводов этого мнения, но основной тенденции их не забыл. Тогдашнего полицейского самодержавия, конечно, никто не защищал, но чтобы задачей было не исправление самодержавия, а введение «конституции», с этим Любенковы не соглашались. Конституционная практика Запада в восторг их не приводила; они указывали в ней те же недостатки, что и славянофилы. В неподготовленной, некультурной России государственное самоуправление, по их мнению, было бы самообманом. Они предсказывали при конституции образование класса профессиональных политиков, у которого заботы о благе народа переродятся в тактику «уловления» голосов; всеобщее избирательное право превратится в подделку под народную волю; разум и «совесть» народных представителей сменятся подчинением новым деспотам-партиям, их случайному большинству и безответственным руководителям и т. д.
Вот какие мысли еще имели право гражданства в 1890-х годах. Не говорю о тех течениях мысли, которые, предваряя современную моду, уже тогда смеялись над «парламентским кретинизмом» и «либерализмом» и предпочитали им якобинскую диктатуру, что сближало их против их воли и с фашизмом, и с самодержавием. Могу сделать один общий вывод: в 1890-х годах «конституция» панацеей еще не считалась; самодержавие не было для всех общим и главным врагом, как это сделалось позже.
Если позже оставались еще сторонники самодержавия, то его «идеалисты» уже исчезали. За самодержавие стояли тогда или пассивные поклонники всякого факта, или представители привилегированных классов, которые понимали, что самодержавие их охраняет. Эта перемена настроения произошла на нашей памяти и на наших глазах.
Глава III. Студенчество моего времени
Настоящая глава писана не для этой книги и потому требует извинения. В 1930 году я написал свои «студенческие воспоминания» для сборника в память 175-летия Московского университета[188 - См.: Маклаков В. А. Отрывки из воспоминаний // Московский университет. 1755–1930: юбилейный сборник. Париж: Изд-во «Современные записки», 1930. С. 294–318.]. Они оказались слишком длинны для сборника; из них были помещены только отрывки о Герье, Ключевском и Виноградове. Но я пользуюсь уже написанным для настоящей книги. Читатели извинят, что у меня не хватило охоты воспоминания радикально переделывать и что они носят слишком личный характер. Но эпоха моего студенчества настолько характерна, что интерес они могут представить.
Студенты моего поколения даже внешним образом принадлежали к переходной эпохе. Мы поступили в университет после Устава 1884 года и носили форму; старший курс ходил еще в штатском[189 - Университетский устав 1884 г. ликвидировал автономию российских университетов. Подробнее об этом см.: Щетинина Г. И. Указ. соч. Устав 1884 г. не признавал обязательным ношение студентами формы, которое сделалось таковым в университетах Петербургском, Московском, Казанском, Киевском, Новороссийском (Одесском) и Харьковском согласно Положению Комитета министров, высочайше утвержденному 23 марта 1885 г.]. Так смешались и различались по платью питомцы эпохи «реформ» и питомцы «реакции».
Устав 1884 года был первым органическим актом нового царствования. Его Катков приветствовал известной статьей: «Встаньте, господа! Правительство идет, правительство возвращается»[190 - «Новый университетский устав, – писал М. Н. Катков в «Московских ведомостях» 6 октября 1884 г., – важен не для одного учебного дела, он важен еще потому, что полагает собою начало новому движению в нашем законодательстве; как Устав 1863 года был началом системы упразднения государственной власти, так Устав 1884 года представляет собою возобновление правительства, возвращение властей к их обязанностям. ‹…› Итак, господа, – заключал М. Н. Катков, – встаньте: правительство идет, правительство возвращается!.. Не верите?» (Катков М. Н. Сборник передовых статей «Московских ведомостей». 1884 год. М., 1898. С. 511–512).]. Он предсказывал, что университетская реформа только начало и указует направление «нового курса». Они не ошибся. Реформа университета имела целью воспитывать новых людей. Она сразу привела к «достижениям»; их усмотрели в посещении Московского университета Александром III в мае 1886 года[191 - Александр III посетил Московский университет 15 мая 1886 г.].
Конечно, для успеха этого посещения были приняты и полицейские меры, но ими одними объяснить всего невозможно. Даже предвзятые люди не могли не признать, что молодежь вела себя не так, как полагалось ей по ее репутации. При приезде государя она обнаружила настроение, которое до тех пор бывало только в привилегированных заведениях. Такой восторженный прием государя не был возможен ни раньше, ни позже. Он произвел впечатление. Московские обыватели обрадовались, что «бунтовщики» так встретили своего государя. Катков ликовал. Помню его передовицу: «Все в России томилось в ожидании правительства. Оно возвратилось… И вот на своем месте оказалась и наша молодежь…». Он описывал посещение государя: «Радостные крики студентов знаменательно сливались с кликами собравшегося около университета народа». И он заключал, что Россия вышла, наконец, из эпохи волнений и смут[192 - Ср.: «Все в России томилось ожиданием правительства. Оно возвратилось, – писал М. Н. Катков в «Московских ведомостях» 16 мая 1896 г. – И вот на месте оказалось и учащееся юношество наше, в котором все надежды нашего будущего, – оказалось на своей родной почве, при своем народе, верное его преданиям. ‹…› С глубоким и радостным умилением присутствовали мы вчера при свободном, искреннем, горячем одушевлении молодых людей университета, встречавших и провожавших самодержца России. Их восторженные клики знаменательно сливались с громом кликов народа, окружавшего здание университета. Они были тем, чем быть должны, детьми своего народа. ‹…› Да, этот прекрасный студенческий праздник 15 мая в Московском университете – событие поистине знаменательное и, мы уверены, обильное благими последствиями не для одного Московского университета, но и далеко за его стенами…» (Катков М. Н. Сборник передовых статей «Московских ведомостей». 1886 год. М., 1898. С. 252–253).].
Легкомысленно делать выводы из криков толпы; мы их наслушались и в 1917 году, и теперь, в Советской России. Еще легкомысленней было бы думать, что одного Устава могло быть достаточно, чтобы студенчество переродилось в два года. Но не умнее воображать, что прием был «подстроен» и что в нем приняли участие только «подобранные» элементы студенчества. Он был нов и знаменателен, и это надо признать.
Воспитание нового человека началось, собственно, много раньше, еще с «толстовской» гимназии[193 - Подразумеваются классические гимназии, появившиеся в 1871 г. по инициативе тогдашнего министра народного просвещения графа Д. А. Толстого и ставшие единственным типом гимназий. В. А. Маклаков писал, что «сама классическая гимназия, ее худшего времени, эпохи реакции 1880-х годов, оставила во мне такую недобрую память, что я боюсь быть к ней даже несправедливым. И эта недобрая память только росла, потому, вероятно, что в том уродовании “духа”, которое сейчас происходит в Советской России, как и во многих других новшествах “народной демократии”, ясно выступают черты того худшего, что было в старой России. Они сейчас опять воскресают, только с невиданным прежде цинизмом. Я не хочу делать упрека нашим учителям и даже начальству. Среди них были разные типы, были и хорошие люди. Я говорю о “системе”, которую в России ввели и которой их всех заставляли служить. Эта система имела главной задачей изучение древних, то есть мертвых, языков. Знание языков всегда очень полезно, а в молодые годы и дается очень легко. Для этого вовсе не нужно много грамматики. Можно говорить и понимать на чужом языке, грамматики совершенно не зная. Такого знания древних языков классическая гимназия, несмотря на то что в жертву этому приносила другие предметы, нам не давала. Ни по-латыни, ни по-гречески разговаривать мы не могли. А ведь наши отцы и деды это, по крайней мере по-латыни, умели. ‹…› Причина в том, что эти языки мертвы, что на них больше не говорят, что нельзя импровизировать новых грамматических правил, которые в живых языках всегда идут в сторону упрощения. Самих грамматик древних языков не сохранилось. Нужно было самим их выводить из уцелевшей древней литературы. Потому знание древних языков и сводилось прежде всего к усвоению грамматических правил и исключений. Отыскание и формулировка этих правил для языков, на которых уже не говорят, от которых остались лишь письмена, были одними из замечательных достижений ума человека. Конечно, эта задача была еще труднее для разгадки иероглифов; через нее проникали в тайну образования языка. Это интереснейшая отрасль знания. Можно было желать, чтобы для тех, кто ею интересуется, существовали специальные школы. Но классические гимназии ставили задачу не так. Их аттестат был сделан непременным условием допущения в высшую школу – университет, где преподают и другие науки. Когда высшее образование перестало быть монополией привилегированных классов и должно было быть доступно для всех, средняя школа должна была всех подготовлять к его восприятию и брать мерилом подготовленности к этому не древние языки, а обладание нужными в жизни знаниями и уровень общего развития. Для этого было нужно не знание грамматик языков, на которых больше не говорят: почему тогда не требовать и знания иероглифов? Такое специальное знание общего развития не обеспечивало; так можно только подготовлять специалистов. Сторонники классического образования имели за себя другие доводы. Владение древними языками открывало доступ к всеобъемлющей классической цивилизации; в ней можно было найти зародыши всякого знания – религии, философии, права, государственных форм, исторических смен и т. д. ‹…› В тех пределах, в которых грамматика нужна для понимания текста, она дается так же легко, как и в живых языках или как давалась нашим отцам. Но если изучение классических языков и не давало в гимназии такого развития, то оно направляло обучение по ложной дороге. Во-первых, на древние языки уходило так много времени, что на другие предметы его уже не было. А во-вторых, многих знаний гимназия и не хотела давать. Конечно, некоторые предметы были так необходимы, что учиться им не мешали. Таковы математика, физика. Дурного влияния от них не боялись и потому их не уродовали. Зато предметы, относящиеся к гуманитарным знаниям, как литература, история, старались для учеников “обезвредить”. Как классическую литературу заменяли тонкостями грамматики, так, например, историю заменяли собственными именами и “хронологией”. В смысл и связь событий старались не углубляться. Если от учителя в меру его любви к своему предмету и ловкости и зависело провозить иногда запрещенный груз, то это была все-таки контрабанда, которая провозилась в маленьких дозах» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 30–33).]. Дело не в классицизме, который мог сам по себе быть благотворен, а в старании гимназий создавать соответствующих «видам правительства» благонадежных людей. Как жестока была эта система, можно судить по тому, что ее результаты оказывались тем печальнее, чем гимназия была лучше поставлена; ее главными жертвами были всегда преуспевшие, первые ученики. Они потом меньше лентяев оказывались приспособлены к жизни. Но не гимназия и не Устав 1884 года переродили студенческую массу к 1886 году; это сделало настроение самого общества, которое к этому времени определилось и которое студенчество на себе отражало.
Устав 1884 года не мог продолжать дело толстовской гимназии. Только старшие студенты ощущали потерю некоторых прежних студенческих вольностей и этим могли быть недовольны. Для вновь поступающих университет и при новом уставе в сравнении с гимназией был местом такой полной свободы, что мы чувствовали себя на свежем воздухе. Нас не обижало, как старших, ни ношение формы, ни присутствие педелей и инспекции[194 - С. И. Мицкевич, учившийся одновременно с В. А. Маклаковым в Московском университете, вспоминал: «На каждом факультете в помощь инспектору был субинспектор, и на каждом курсе – педель. Педель отмечал посещение лекций, которое, по новому уставу, было обязательным, но правило это не соблюдалось строго, и на юридическом факультете, например, посещение лекций было очень слабое. Медики посещали лекции более аккуратно, но тоже не всех профессоров. Педеля наблюдали также за соблюдением формы, за малейшее нарушение которой они тащили студента к субинспектору для воздействия, но главной задачей их было наблюдать за тем, чтобы студенты не устраивали сходок и совещаний. Они были связаны с охранкой и давали, по-видимому, туда характеристики студентов, чем-либо выдававшихся по своей общественной активности. По виду педеля были похожи на жандармских унтер-офицеров или тюремных надзирателей – препротивные типы» (Мицкевич С. И. Революционная Москва. 1888–1905. М., 1940. С. 62).]. Устав 1884 года больнее ударил по профессорам, чем по студентам. Его основная идея относительно нас, т. е. попытка объявить студентов «отдельными посетителями университета» и запретить им «всякие действия, носящие характер корпоративный», никогда полностью проведена быть не могла.
Припоминаю характерный случай. Когда я был еще гимназистом, я от старших слыхал много нападок на новый университетский устав, и его негодность была для меня аксиомой. После брызгаловских беспорядков[195 - Под «брызгаловскими беспорядками» В. А. Маклаков имеет в виду происходившие в конце ноября 1887 г. массовые волнения студентов Московского университета, названные по имени инспектора этого университета А. А. Брызгалова. Характеризуя «систему Брызгалова», тогдашний студент Б. А. Щетинин писал: «В любом, ничтожнейшем нарушении устава он готов был видеть почти политическое преступление и всячески преследовать нарушителя, незаметно выраставшего в его глазах до степени опасного крамольника. Пощады не было никому, все и правые, и виноватые – ввергались в карцер, гостеприимно раскрывавший двери перед “преступником”. ‹…› Гнет брызгаловского режима день ото дня становился все тягостнее, быстро росли недовольство и раздражение, поднимался всеобщий ропот, в университетской атмосфере чувствовалась гроза, которая и разразилась, наконец, в студенческом концерте 22 ноября 1887 года» (Щетинин Б. А. Первые шаги (Из недавнего прошлого) // Московский университет в воспоминаниях современников: сборник. М., 1989. С. 542). В результате 22 ноября 1887 г. в зале Московского благородного собрания во время концерта оркестра и хора студентов Московского университета, при огромном стечении публики, после антракта в начале 2-го отделения произошло следующее. Когда А. А. Брызгалов возвратился в главный зал, студент 3-го курса юридического факультета А. Л. Сенявский нанес инспектору сзади сильный удар по лицу. А. А. Брызгалов обернулся к нему, а студент со словами: «Вот тебе еще», с прибавлением бранного выражения, хотел ударить инспектора вторично, но А. А. Брызгалов успел отстранить этот удар, а А. Л. Сенявский был задержан. На следующий день начались массовые студенческие волнения, в которых приняли участие сотни студентов, по причине чего 30 ноября последовало закрытие Московского университета и исключение из него 97 человек. Однако вместе с тем А. А. Брызгалов получил отставку. Подробнее см.: Орлов В. И. Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. М., 1934. С. 191–199.], где в числе студенческих требований стояло «Долой новый устав», я как-то был у моих товарищей по гимназии Чичаговых, сыновей архитектора, выстроившего Городскую думу в Москве[196 - Здание Московской городской думы было построено по проекту Д. Н. Чичагова в 1890–1892 гг. в неорусском стиле.]. Разговор зашел о требовании «отмены Устава». Без всякой иронии, далекий от академической жизни, архитектор Д. Н. Чичагов нас спросил: «Что, собственно, вам в новом уставе не нравится?» В ответ мы ничего серьезного сказать не могли. Мы не знали. Нам, новым студентам, устав ни в чем не мешал; мы стали говорить о запрещении библиотек, землячеств, о несправедливостях в распределении стипендий. Д. Н. Чичагов слушал внимательно, видимо стараясь понять, и спросил в недоумении: «Но ведь все это можно исправить, не отменяя устава?» Позднее я знал, что было бы нужно против устава сказать. А еще позднее я понял, что в совете архитектора Д. Н. Чичагова исправлять недостатки, не разрушая самого здания, было то правило государственной мудрости, которого не хватало не только моему поколению.
Время студенчества (1887–1894) лично мне дало очень много. Гимназистом я жил в среде людей, достигших заметного и твердого положения в обществе. В ней одной я не мог бы увидеть всего, что переживать в молодые годы полезно. К счастью, моя студенческая жизнь подпала под другие влияния. Я был в возрасте, когда ничего не потеряно и жизнь может определяться случайностью. Она и произошла со мной в ноябре 1887 года, т. е. через два месяца после моего поступления в университет.
22 ноября 1887 года я был на очередном концерте студенческого оркестра и хора. Оркестр был привилегированным студенческим учреждением; его концерт был внешней причиной посещения государя. Я сидел в боковых залах Собрания, когда мимо прошел инспектор Брызгалов. Я знал, что студенчеству он ненавистен, но с ним лично не сталкивался. Едва он прошел, как из соседней залы послышался треск и все туда бросились. Студент Синявский только что дал Брызгалову пощечину. Этого я не видел своими глазами. Возможно, что зрелище насилия меня возмутило бы. Но когда я подбежал, Брызгалова уже не было, зато два педеля держали за руки бледного, незнакомого мне студента. Его потащили к выходу. Толпа студентов росла, когда его уводили. Я узнал, что случилось, и это было для меня откровением. В моих глазах живо стояло лицо арестованного. Я понимал, что его ожидает. В первый раз я видел перед собой человека, который добровольно всей своей будущей жизнью за что-то пожертвовал. Это одно из впечатлений, которые в молодости не проходят бесследно[197 - Сразу после инцидента с А. А. Брызгаловым А. Л. Синявский был отвезен в Тверской полицейский частный дом, а 29 ноября 1887 г. отправлен на три года в дисциплинарный батальон. «Судьба сжалилась над Синявским, – отмечал Б. А. Щетинин, – говорят, ему легко было отбывать суровое наказание в арестантских ротах, так как, благодаря мягкости своего характера и добродушию, он понравился тюремному начальству, которое относилось к нему весьма благосклонно. Впоследствии же он вновь принят был в университет и прекрасно его окончил» (Щетинин Б. А. Указ. соч. С. 544).].
Не я один это чувствовал. Никто не знал, что надо делать, но университетская традиция помогала. 24 ноября на двор Старого здания [Московского университета] собралась толпа, человек 200 или 300, и стала кричать: «Ректора». Это было тем, что именовалось «сходкой». Немедленно толпа запрудила Моховую и сквозь решетку смотрела, как «бунтуют» студенты. Сходка была сама по себе явлением не опасным, но власти с ней не шутили. Через несколько минут прибыли конные войска с Тверской и Никитской и университет со всех сторон оцепили. «Бунт» был оформлен. Приехал попечитель[198 - Этот пост занимал граф П. А. Капнист.], уговаривал разойтись; его освистали. Сходку пригласили в актовый зал; вышел ректор, студент Гофштеттер изложил ему различные требования, начиная с освобождения Синявского и отставки Брызгалова и кончая отменой устава. «Виновных» переписали, отобрали билеты и запретили вход в университет до окончания над ними суда. Участников сходки было так мало, что занятия в университете после этого продолжались и только городовые, которые у входа проверяли билеты, напоминали, что в университете был только что бунт. Но беспорядки питают сами себя. Сочувствие к участникам сходки помогало расширению неудовольствия. Те, кому запретили вход в университетские здания, стали собираться на улицах. В четверг 26 ноября состоялась большая сходка на Страстном бульваре. Ее разогнали силой, кое-кто пострадал; разнесся слух, будто оказались убитые. Тогда негодование охватило решительно всех. Тщетно сконфуженная власть эти слухи опровергала; напрасно те, кого считали убитыми, оказывались на проверке в добром здоровьи. Никто не верил опровержениям, и они только больше нас возмущали. Помню резоны П. Д. Голохвастова, который меня успокаивал: «Вы не могли убитых назвать и за это на власть негодуете. Не может же она убить кого-либо для вашего удовольствия?» Эта шутка казалась кощунством. В университете не могло состояться ни одной уже лекции. Попечитель, туда показавшийся в субботу, был снова освистан. Университет пришлось закрыть, чтобы дать страстям успокоиться. За Московским университетом аналогичные движения произошли и в других, и скоро пять русских университетов оказались закрытыми[199 - Непосредственным результатом событий в Московском университете явились студенческие волнения в Петербурге, Казани, Одессе и Харькове. В конце 1887 г. были временно закрыты помимо Московского еще четыре университета: Петербургский, Казанский, Новороссийский (Одесский) и Харьковский, а также Казанский ветеринарный и Харьковский технологический институты. Подробнее см.: Ткаченко П. С. Московское студенчество в общественно-политической жизни России второй половины XIX века. М., 1958. С. 160–172.].
Это пустое событие произвело громадное впечатление на общественное мнение. Либеральная общественность ликовала: университет за себя постоял. «Позор» царского посещения был теперь смыт. Катков, который к осени 1887 года уже умер, был посрамлен в своей преждевременной радости. Молодежь оказалась такой, какой бывала и раньше. Конечно, в газетах нельзя было писать о беспорядках ни единого слова, но стоустая молва этот пробел пополняла. Студенты чувствовали себя героями. На ближайшей Татьяне[200 - Имеется в виду Татьянин день (12 января), по церковному календарю – День святой Татьяны (Татианы), считающейся небесной покровительницей Московского университета и вообще всех студентов и преподавателей вузов.] в «Стрельне» и в «Яре» нас осыпали хвалами ораторы, которых мы по традиции Татьянина дня выволакивали из кабинетов для произнесения речи. С. А. Муромцев, как всегда величавый и важный, нам говорил, что студенческое поведение дает надежду на то, что у нас создастся то, чего, к несчастью, еще нет, – русское общество. Без намеков, ставя точки на i, нас восхвалял В. А. Гольцев: Татьянин день по традиции был днем бесцензурным, и за то, что там говорилось, ни с кого не взыскивалось. Но эти похвалы раздавались по нашему адресу не только во взвинченной атмосфере Татьянина дня. Я не забуду, как Г. А. Джаншиев мне наедине объяснял, какой камень мы – молодежь – сняли с души всех тех, кто уже переставал верить в Россию.
А между тем беспорядки 1887 года должны были бы скорее привести к обратному выводу. Наблюдательному человеку они могли показать, что молодежь не та, что была раньше, что даже та среда, которая оказалась способна на риск, откликнулась только на призыв к студенческой солидарности, а никакой «политики» не хотела и не шла дальше чисто университетских вопросов. Вот сценка, на которой я присутствовал сам.
На сходке 26 ноября на Страстном бульваре студенты заполняли бульвар, сидели на скамьях и гуляли, ожидая событий. Вдруг прошел слух, что на бульваре есть «посторонние» люди, которые хотели «вмешать в дело политику». Надо было видеть впечатление, которое это известие произвело на собравшихся. Мы бросились по указанному направлению. На скамье рядом со студентами сидел штатский в серой барашковой шапке. «Это вы хотите вмешать в наше дело политику?» Его поразила в устах студенчества такая постановка вопроса. Он стал объяснять, что надо использовать случай, чтобы высказать некоторые общие пожелания. Дальше слушать мы не хотели. «Если вы собираетесь это сделать, мы тотчас уходим; оставайтесь одни». Студенческая толпа поддерживала нас сочувственными возгласами. Он объявил, что если мы не хотим, то, конечно, он этого делать не станет. Долго говорить не пришлось. Показались казаки и жандармы, и началось избиение.
Этот эпизод характерен. Человек в серой барашковой шапке не был совсем «посторонним»; он был студентом-юристом четвертого курса. Только он был старшего поколения. И мы уже не понимали друг друга. Слово «политика» нас оттолкнуло. А мы были большинство в это время; от нас зависела удача движения; и «политики» мы тоже хотели. Ее действительно и не было в беспорядках этого года. Потому они и сошли для всех так благополучно. Власть опасности в них не увидала и успокоилась. Пострадавший Брызгалов был смещен и скоро умер. На его место был назначен прямой его антипод, С. В. Добров. Синявский, отбыв в арестантских ротах трехлетнее наказание, вернулся в Москву. Я с ним познакомился; исторические герои теряют при близком знакомстве. Я могу сказать положительно: громадное большинство университетской молодежи того времени на «политику» не реагировало.
Не могу сразу расстаться с серой барашковой шапкой. Судьба нас впоследствии сблизила. Но следующая встреча была забавна и характерна.
Этой зимой был юбилей Ньютона[201 - И. Ньютон родился 25 декабря 1642 г. по юлианскому календарю, который действовал в Англии до 1752, в России – до 1918 г.], который праздновался в соединенном заседании нескольких ученых обществ, под председательством профессора В. Я. Цингера. Как естественник я пошел на заседание. Было много студентов. Мы увидали за столом Д. И. Менделеева. Он был в это время особенно популярен, не как великий ученый, а как «протестант». Тогда рассказывали, будто во время беспорядков в Петербургском университете Менделеев заступился за студентов и, вызванный к министру народного просвещения[202 - Речь идет об И. Д. Делянове.], на вопрос последнего, знает ли он, Менделеев, что его ожидает, гордо ответил: «Знаю; лучшая кафедра в Европе»[203 - Д. И. Менделеев 13 марта 1890 г. узнал о том, что в Петербургском университете готовится большая студенческая сходка, и дал согласие обратившимся к нему профессорам университета В. В. Докучаеву и А. А. Иностранцеву в случае необходимости призвать студентов к спокойствию. Во время проходившей 14 марта сходки Менделеев выступил перед студентами, предлагая им разойтись, а затем поехал к министру народного просвещения И. Д. Делянову и сообщил ему о требованиях студентов. На следующий день перед лекцией Менделеев обратился к студентам с предложением передать составленную ими петицию министру народного просвещения. После лекции Менделеев поехал к Делянову, однако не застал его на месте и оставил ему петицию со своей запиской. Министр 16 марта возвратил Менделееву петицию с формальной резолюцией о невозможности принять ее к рассмотрению. На возвращенной петиции 17 марта Менделеев сделал запись о своем решении оставить университет и 19 марта подал прошение об отставке, а 22 марта прочел последнюю лекцию в университете (Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева. Л., 1984. С. 284–285).]. Не знаю, правда ли это, но нам это очень понравилось, и Менделеев стал нашим героем. Неожиданно увидев его в заседании, мы решили, что этого так оставить нельзя. Во время антракта мы заявили председателю Цингеру, что если Менделееву не будет предложено почетное председательство, то мы сорвем заседание. В. Я. Цингер с сумасшедшими спорить не стал. И хотя Менделеев был специально приглашен на это собрание, хотя его присутствие сюрпризом не было ни для кого, кроме нас, после возобновления заседания Цингер заявил торжественным тоном, что, узнав, что среди нас присутствует знаменитый ученый (кто-то из нас закричал: «И общественный деятель») Д. И. Менделеев, он просит его принять на себя почетное председательствование на остальную часть заседания. Мы неистово аплодировали и вопили. Публика недоумевала, но не возражала. Мы были довольны. Но наутро, вспоминая происшедшее, я нашел, что надо еще что-то сделать. В момент раздумий я получил приглашение прийти немедленно на квартиру С. П. Невзоровой по неотложному делу.
Два слова об этой квартире. Старушка С. П. Невзорова, сибирская уроженка, в очках, со стриженной седой головой, была одной из многочисленных хозяек квартир, где жили студенты. Это было особой профессией; для одних содержание таких квартир было «коммерцией», для других – «служением обществу». Софья Петровна была типичной хозяйкой второй категории; она жила одной жизнью со своими молодыми жильцами и со всеми, кто к ним приходил. Защитница их и помощница, ничего для них не жалевшая, все им прощавшая, не знавшая другой семьи, кроме той, которая у нее образовалась, она устроила у себя центр студенческих конспираций. Каждый мог к ней привести переночевать нелегального, спрятать запрещенную литературу, устроить подозрительное собрание и т. д. А в мирное время к ней собирались почти каждый вечер то те, то другие. Совместно в честь хозяйки готовили сибирские пельмени, пока кто-нибудь читал вслух новинки литературы (как сейчас помню, выходившую тогда в «Вестнике Европы» щедринскую «Пошехонскую старину»[204 - Хроника М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» печаталась в журнале «Вестник Европы» в 1887–1889 гг. и в 1890 г. вышла отдельным изданием.]). Потом поглощали пельмени, запивая чаем или пивом, и пели студенческие песни. Иногда спорили до потери голоса и хрипоты. Такие квартиры были во все времена. О них рассказывал Лежнев в тургеневском «Рудине». Они не меняли характера в течение века. Ибо главное – 20 лет у участников – оставалось всегда. Много воспоминаний связано у меня с такими квартирами. Они дополнительно воспитывали питомцев толстовской гимназии. Не всем были по вкусу нравы подобных квартир. Когда мой брат Николай, будущий министр внутренних дел, стал студентом, я его привел к Софье Петровне. Все там его удивляло и коробило; он не прошел моей школы. А его вежливость и воспитанность поливали холодной водой нашу публику. Более он сюда не ходил, да я его и не звал. Возвращаюсь к рассказу.
У С. П. Невзоровой я застал тогда целое общество. Был и ставший позднее известным общественным деятелем Г. А. Фальборк, вечно кипятящийся, все преувеличивающий, стиль политического Хлестакова. Не знаю, кем он был в это время. Но, наверное, исключенным студентом; это было его обычное состояние. Он пришел сказать, что приезд Менделеева надо использовать, послать к нему депутацию; уверял, что с Менделеевым он очень дружен, что предупредил его о депутации и что он ее ждет. Менделеев пробудет еще несколько дней, но откладывать нечего. Надо идти. Все немедленно согласились быть в депутации. Никто себя не спросил, зачем и, главное, от кого идет депутация. Ждали только Гуковского. Я слыхал это имя, но до тех пор его не встречал. Когда он явился, я неожиданно узнал в нем незнакомца в серой барашковой шапке.
Мы двинулись в путь. Фальборк довел нас до «Европы», где стоял Менделеев, но с нами войти не захотел. Говорил, что ему, как близкому другу Менделеева, в депутации неловко участвовать. Входя по лестнице, мы решили, что начнем с того, что явились как депутация. В разговоре станет понятно, о чем говорить. На стук в дверь кто-то ответил: «Войдите». За перегородкой передней мы увидали проф[ессора] А. Г. Столетова и остолбенели. Перспектива его встретить нам в голову не приходила, а разговор при нем не прельщал. Мы стояли в передней и переглядывались. Чей-то голос нетерпеливо сказал: «Ну что же, входите». И показалась фигура Менделеева. Тогда один из нас объявил торжественным тоном: «Депутация Московского университета». Менделеев как-то стремительно бросился к нам, постепенно вытеснял нас назад в коридор, низко кланялся, торопливо жал всем нам руки. Он говорил: «Благодарю, очень благодарю, но извините, не могу, никак не могу». Когда мы очутились в коридоре, он, держась рукой за дверь, все еще кланялся, повторял «благодарю, не могу» и скрылся. Щелкнул замок. Мы разошлись не без конфуза.
В этот день я пошел на заседание Московского губернского земства. Вспоминая об утреннем посещении, я решил один отправиться опять к Менделееву узнать, что означал такой странный прием. Гостиница была в двух шагах. Мне ответили, что Менделеев с почтовым поездом уехал назад в Петербург. Делать было нечего. Но через несколько дней кто-то из профессоров при мне рассказывал моему отцу, что, заехав к Менделееву в назначенный час, они застали его на отъезде. Менделеев объяснил, что приехал на несколько дней отдохнуть и кое-кого увидать, но что здесь все рехнулись. Накануне ему преподнесли «сюрприз» председательствования, а на другой день в одно утро пришло четыре или пять студенческих депутаций. Он принял одну, не зная, в чем дело; остальных не стал и пускать. Но поняв, что ему не дадут здесь покоя, поторопился уехать.
Когда мы рассказали про наше посещение Фальборку, он не смутился. Он дал нам тонко понять, будто на Менделеева было произведено властями давление и что его из Москвы удалили. Это объяснение нам больше понравилось. Я рассказал об этом шутовском эпизоде потому, что он очень типичен. На почве дезорганизованности студенческой массы так фабриковали тогда депутации, которые считали себя вправе говорить от имени всех.
А. И. Гуковского я потом видал очень часто. Годами он был немного старше меня, но бесконечно старше опытом и развитием. В глазах моего поколения он и его сверстники казались стариками, которые видали лучшие дни. Мы относились к ним с уважением, но их не понимали и за ними не шли. В грубой форме это сказалось, когда мы грозили уйти со Страстного бульвара. Это всегда ощущалось позднее. Нас уже разделяла какая-то пропасть. Говорю при этом только про идейную молодежь нашего времени, не «белоподкладочников». Лично я испытывал это с Гуковским. Я бывал у него очень часто: он меня просвещал политически, давал мне литературу, но держался от меня в стороне. Я никогда его не спрашивал, даже когда увидался с ним здесь в Париже, узнал ли он меня в числе тех, кто на Страстном бульваре заставил его замолчать. По той или другой причине тогда он мне или не верил, или меня щадил. Скоро он был арестован и посажен на три года в Шлиссельбургскую крепость[205 - Имея в виду последние мемуары В. А. Маклакова, М. В. Вишняк писал: «В. А. Маклаков утверждает, что Гуковский был “посажен на три года в Шлиссельбургскую крепость” и там “выбросился из окна и разбился”. Это не могло случиться в Шлиссельбургской крепости: в списке сидельцев Шлиссельбурга имени Гуковского нет; на короткие сроки в Шлиссельбург не заточали; и выброситься из окна там было невозможно не только благодаря неотступному надзору стражи, но и из-за характера помещений, в которых содержали заключенных в конце прошлого столетия. По моим сведениям, Гуковский покушался на самоубийство, находясь в Доме предварительного заключения: он бросился с галереи внутренней лестницы и при падении повредил ногу» (Вишняк М. В. «Современные записки»: воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 55).]