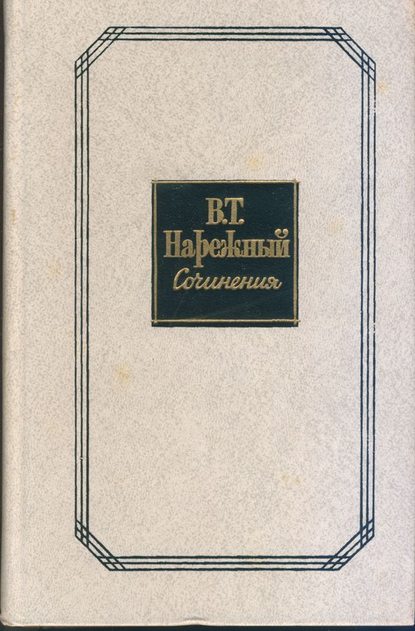По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Российский Жилблаз, Или Похождения Князя Гаврилы Симоновича Чистякова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он. Я думаю, что вы, любезный друг, продав поле так выгодно, получили не меньше, как я за проданный свой хлеб. Простите, любезнейший друг, простите. Бог милостив! Авось на будущий год получше будет урожай в вашем огороде.
Он вышел в особую горенку, а я с ноющим сердцем – на двор. Ночь была не лучше дня; мрачные тучи носились стаями по небу; дождь лился ведром. Я хотел было воротиться домой, но подумал сам в себе: «Что найду дома? Страждущую жену и, может быть, уже плачущего младенца! Боже! – сказал я в страшном замешательстве, – для чего каждый человек с таким удовольствием стремится произвести на свет подобное себе творение, а редкий думает, как поддержать бытие его и матери, не говоря уже о своем?» Я весь вымок до кости, но еще хотел попытать счастья. Однако где я ни был, везде говорили мне то о проданном поле, то о вытоптанном огороде, то о бобовой гряде; а инде советовали, как тесть мой, князь Сидор Архипович, живет со мною, продать дом его и тем поправить свое состояние. «Это весьма изрядный совет, – думал я, – но теперь не у места».
Словом, я до тех пор шатался по улицам, пока везде погасили огонь. Тщетно стучался я у старосты, у священника, у всего причета церковного, – никто даже не взял труда и спросить, кто там и что надобно?
В первый раз чувство, близкое к отчаянию, поразило душу мою. Никогда прежде не имел я жены; а хотя княгиня и была для меня почти то же, но я не видал ее борющеюся с болезнию при выходе на свет плода любви несчастливой.
Однако ж как нечего больше было делать, то и побрел домой.
Подходя к воротам, крайне удивился, видя довольно хорошее освещение. Сердце мое отдохнуло. Конечно, жена таила от меня какое-либо сокровище, что так пышно освещает ночь родин своих. С радостным чувством подхожу к дверям, и слух мой поражается младенческим криком дитяти и болезненным воплем матери. «Итак, она родила? Что ж заставляет ее так вопить?» – думал я. Я слыхал, что как скоро женщина родит, то уже может воздержаться от криков.
Отворяю дверь, вхожу, творец милосердый! Посредине комнаты вижу стол, покрытый толстою простынею, вокруг его четыре подсвечника, а на нем бездыханное тело тестя моего, князя Сидора Архиповича Буркалова.
– Что мне делать теперь несчастному? – вскричал я и упал на пол без чувств.
Пришед в себя, я вижу в ногах моих рыдающую Марью, в головах – жида Яньку.
– И ты здесь, окаянный! – сказал я со гневом. – Верно, ты уморил его?
– Никак, ваше сиятельство, – отвечал жид, – он сам был несколько неосторожен. С утра самого сидел все у меня. Почему и не так! Я добрым гостям рад. К вечеру подошли еще кое-кто, начали его утешать в печали по случаю родин дочери и неимущества, и до тех пор утешался, что я должен был ему напомнить: «Ваше сиятельство, – сказал я, – пора отдохнуть». – «Не твое дело, жид», – отвечал он сурово, замахивая палкою. А вы сами знаете, каков был покойник! Я замолчал. Следствие видимое. Его ударил паралич или что-нибудь другое, и он умер скоропостижно. Я тотчас велел потушить огни, взял его с работником на плеча и принес сюда. Клянусь Моисеем, без всяких залогов дал я Марье денег столько, что она могла взять из церкви вашей подсвечники и нанять псаломщика.
Я взглянул на Марью, и удовлетворительный ответ ее подтвердил слова Янькины. Он вскоре ушел. Сердце мое обливалось кровью! Жена моя рыдала, дитя плакало. Мысль, чем я завтра прокормлю их, тяготила душу мою. Я сидел у окна, облокотись на руку, и неподвижными глазами смотрел на сине-багровый труп моего тестя. Так протекло несколько времени, горестнейшего тысячекратно, чем то, когда я ждал зари, дабы видеть княжну Феклушу, полющую капусту, и, не видя ее, топтал огород.
Петух мой прокричал уже несколько раз, псаломщик зевал за каждым словом; сверх того, из другого покойчика слышал я всхлипывания моей княгини и вопль молодого князя; как я хотел к ним войти, но отнюдь не позволяла Марья, ибо сего не водилось ни в одной княжеской фамилии в нашем околотке. Я должен был согласиться, но не знал, что дальше делать; а смотреть на тестя мне наскучило. За лучшее счел пойти в хлев, пустой с тех пор, как отвел корову я к жиду Яньке, и там попытаться, не засну ли. И подлинно, противу чаяния моего, я скоро уснул. Солнце взошло уже высоко, а я не выходил еще из своей опочивальни, как услышал вопль Марьи, меня всюду не находящей. Выхожу и вижу у ворот множество народа обоего пола и разного возраста толпящихся смотреть. Я не понимаю, какое удовольствие находят люди смотреть на подобные картины. Уж пусть бы я был богатый человек, следовательно, им можно бы позевать на то великолепие и пышность, которые будут сопровождать тело тестя моего к знаменитым его предкам; а то стоило ли труда видеть обезображенный труп погибшего скоропостижно и едва ль не от невоздержания.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я сам без трепета не мог взглянуть на него!
«Скоро начнутся обедни, – думал я, – а нет еще ни гроба, ни того, во что бы нарядить князя Сидора». «Постой, – сказал я подумавши, – я одену тестя в свой мундир, мне он более не нужен; гроб сделаю сам из досок, которые у меня на дворе. Увы! необходимость и не то еще заставляет делать!»
Я колол доски, сплочивал, строгал, перестрогивал и все делал с великим усердием и поспешностию, чтоб не опоздать к обедне, к чему время уже подходило. Вдруг слышу позади себя шум, оглядываюсь, и удивление мое было неописанно!
Вижу на заборе, со стороны огорода моего тестя, новый изрядный гроб, выкрашенный красною глиною. С восторгом смотрел я на гроб, как жених смотрит на брачное ложе свое, и в тишине сердца благодарил провидение, удостоверяясь, что сие его дело, тем более что невидимая рука поддерживала гроб. Я страшился подойти к нему, как бы к чему священному, и стоял, спустя руки, а топор и скобель давно из них выпали. Но удивление! далее вижу высовывающуюся небольшую бородку, там всю голову, узнаю и вдруг бросаюсь, крича изо всей силы: «Янька! Янька!» – «Поддержи гроб! – сказал он, – а я влезу на забор, и вместе снимем».
С торжеством внесли мы такой красивый гроб в комнату, к необычайному удивлению Марьи и двух пастухов, купивших у Ивана мое поле. Они пришли пособлять в хлопотах моих. «Конечно, мы бы не смели предложить услуг, – говорили они, – если бы не видали, что никто из первостатейных не хочет того сделать». Взор мой отблагодарил их.
– Любезный Янька! – сказал я, – уложи же, с помощью Марьи и сих честных людей, тело во гроб, а я побегу к попу распорядиться.
– Распорядиться? – сказал Янька с удивлением. – Да в чем тут распоряжаться? Это не купля, не продажа.
– Чтоб похоронить моего тестя с подобающею честию! – отвечал я.
Глава XI
Похороны и проповедь
В доме сказали, что батюшка уже ушел в церковь, поспешаю туда и, к счастью, нахожу, что он не начал еще облачаться.
– Что скажешь, князь? – спросил он.
– Я имею к вам нужду, батюшка, – отвечал я печально.
– Очень часто, свет!
– Что делать, отец мой! За год перед сим хоронил я отца; за несколько недель я венчался и тогда небольшую только имел нужду, ибо дело состояло только в том, чтоб обвенчать попозже обыкновенного. Сегодня имею я крайнюю нужду, ибо сбираюсь хоронить тестя, а ничего не имею.
Поп очень пасмурно сказал:
– Я об этом слышал, и смерть его довольно сомнительная.
– Почему, батюшка? – спросил я с жаром.
– Он умер в шинке у жида, и, как слух носится, чуть ли не от вина.
– Это несбыточное дело, – отвечал я, – умереть скоропостижно можно везде. – Поп удивился моей твердости и молчал.
Ободрившись тем, продолжал я:
– Что же касается до жида Яньки, то это такой жид, – такой, каких в свете мало.
– Может быть, сын мой! Есть люди честные во всяком звании и состоянии, – сказал он. Смирение мое смягчило его. Он сказал: – Приноси тестя в церковь, а я в удовольствие твое, а вместе и в наставление, между прочим, скажу и проповедь.
Я вышел в крайнем восхищении.
«И проповедь! – говорил я улыбаясь, – да этакой чести не имел ни один староста, ни один князь нашей деревни. Спасибо, батюшка, спасибо!»
Заблаговестили. Я и два пастуха подняли гроб и понесли, ибо Яньке, яко жиду, не позволяла благопристойность нести гроб православного христианина.
Не хвастовски сказать, все выпучили от удивления глаза, видя такое убранство. Все хранили глубокое молчание, смиренно крестились и кланялись. Я был полон восхищения; шел, держа на плечах изголовье гроба, не смотрел ни на кого, подобно герою, шествующему в триумфе. Мы проходили ряды, и позади нас раздавался шепот: «Право, прекрасно! кто бы мог придумать!»
«Ага! – сказал я сам себе с напыщенней гордости, – вы этого и не думали? Мало ли вы чего не думаете! Вот каков князь Гаврило Симонович княж Чистяков!» Обедня оканчивалась, сердце мое трепетало от странного движения. Как слушать мне проповедь, где будут в моем присутствии хвалить добродетели и великие достоинства моего тестя? не будет ли это самохвальство, непростительная гордость? А гордость меня только что теперь попутала! Дай отойти со смирением!
Я сделал шаг назад, но ложная совесть сказала мне: «Куда ж бежишь ты? или смеешь хвалиться чужими добрыми делами? Всего вернее, что поп подшутил над тобою. С какой стати говорить проповедь над таким человеком, хотя, впрочем, он – родовой князь. Верно, верно, он подшутил над тобою».
Послушав внутреннего гласа сего, я подвинулся опять и стал у ног покойника. Но как же велико и не неприятно было мое удивление, когда по окончании обедни поставили налой и поп вышел с проповедью! Все князья, крестьяне, княгини и княжны двинулись вперед и так прижали меня ко гробу, что хотя бы и хотел отойти, то уже невозможно было.
Молчание распространилось; всех взоры обращены были то на попа, то на меня. «Как это чудно! – говорили шепотом. – Видно, тут что-нибудь да кроется; видно, бедность их умышленна! Года за три хоронили прежнего старосту, но проповеди не было». Как ни тихо они говорили, но я не проронил ни одного слова и с легкою краскою незаслуженного удовольствия потупил взоры. Мне приятно было слышать их заблуждение, будто с некоторым намерением кажусь я бедным, а в самом деле великий богач. Вскоре после того я стыдился сам такой слабости, или, лучше сказать, глупости; по времени узнал, что большая часть людей так поступает.
Священник осмотрелся, вынул небольшую тетрадочку и начал:
– Благочестивые христиане! Послушайте, что я скажу вам ныне; не неприлично будет к вам слово мое, ибо предстоит скоро великий праздник, именно чрез восемь дней, в следующее воскресенье. Праздник, благоверные слушатели и слушательницы, слово «праздник» для многих из вас есть пресоблазнительное слово. Вместо того чтобы помыслить о божестве и молитве, вы, вставая с постелей, – посудите, православные! – вы помышляете о невоздержании и пьянстве; и выдумываете, что бы заложить, если у вас нет наличных денег!
Такое вступление поразило меня; я поднял глаза и еще больше покраснел не от стыдливости, как прежде, а от какого-то тайного предчувствия. Поп продолжал:
– Хотя, христиане и христианки, церковь во дни празднования некоторых угодников и разрешает вкусить вина и елея, что вы найдете в киевских святцах во многих местах, например: память Алексея божия человека, разрешение вина и елея; празднество благовещения, разрешение вина и елея; но в каких святцах, о православные! начитывали те, кои умеют читать, или слыхали, кои не умеют, чтобы написано было: память Алексея божия человека, разрешение напиться допьяна; празднество благовещения, разрешение шататься по улице со стороны на сторону, биться головою об заборы как угорелому и валяться в грязи, как негодной свинье! Так, этого нигде не написано, а нередко бывает в нашей деревне.
Но оставим это; вы чувствуете, как сие гадко, богу не угодно, и даже в глазах нас, грешных, противно. Обратим беседу нашу к тем, кои и будни превращают в такие праздники, то есть праздники на свой манер. Они ничего не делают, как только пьянствуют и спят, опять пьянствуют и опять спят. Что от сего выходит? Они бывают позор миру и человеком. Вытаскивают из дому своего помаленьку все, до последней нитки, нищают, делаются прежде противны другим, потом – себе. Совесть начинает их жестоко мучить. Но вместо того, чтобы раскаяться и перестать грешить, они, окаянные, конечно по наущению столько же окаянных духов, думают опять утопить совесть свою в вине и больше прежнего пьянствуют. Что далее? Дети начинают презирать их и не слушаются; сыновья обольщают девок; дочери даются в обман парням; все в доме становится вверх дном. Видят сие пребеззаконные отцы их и не смеют сказать ни слово, ибо беззаконие пред очима их. А какой конец всему? От излишнего невоздержания тело их поминутно слабеет, и они, по числу лет своих долженствовавшие бы еще долго жить, умирают без покаяния, оставив семейство в стыде, горести и бедности.