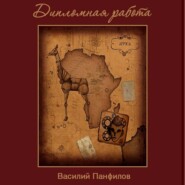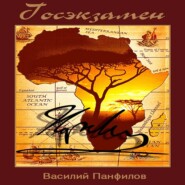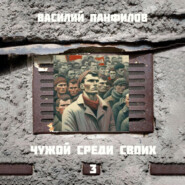По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Старые недобрые времена – 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«– Твою мать!» – разом вспотел попаданец, осознав наконец, что за этими неспешными стариковскими разговорами он, как бы заодно, рассказал о себе много больше, чем хотелось бы. Нет, он не рассказал о собственно попаданстве, но…
«– Твою мать! – всё так же мысленно подублировал он, совсем иначе оценивая дядьку Лукича и его знакомцев.
Да, они в лучшем случае еле могут читать и писать, но у каждого за плечами по двадцать пять лет непростой службы, и жизненный опыт, и умение налаживать отношения как с сослуживцами, так и с начальством, и выстраивать иерархию в кубрике, прибегая не только к насилию…
«– Это, получается, меня местному обчеству представили, – чуточки ёрнически постановил он, не вполне понимая, как к этому относиться. Наверное, хорошо… ведь хорошо же?
Отставники, ветераны в военном городе, они, наверное, могут… что-то. Будь он солдатом, или хотя бы ополченцем, старики, наверное, могли бы замолвить на него словечко, а так… но впрочем, лишним не будет. Наверное.
Домой…
… хотя какое там домой? В расположение Ванька добрался уже к самому вечеру, по темноте.
Он до самого верха переполнен впечатлениями, знакомствами и жидкостью в мочевом пузыре, потому что дошёл, а по большей части доехал, не сразу и не вдруг, передаваемый, как эстафетная палочка, с обязательными беседами и почти обязательным чаем, с каким-никаким, а угощением.
Эти знакомства, и отчасти размышления о них, несколько приглушили стресс. Хотя и понятно, что это ненадолго, но первое, и, наверное, самое тягостное ощущение от боя не на жизнь, а на смерть, от убийства, они сняли. Насколько этот терапевтический эффект окажется длительным, чёрт его знает…
– А-а, явился, – с предвкушающим злорадством констатировал попавшийся на дороге унтер, – Ну ужо барин задаст тебе сикурсу за этакое дезертирство! Как есть задаст!
Не сдержавшись, нетрезвый унтер от души наговорил всякого, из которого Ваньке стало ясно, что он, Ванька, есть холоп и раб, и Его Благородие для него хозяин. А он, унтер, пусть даже сам из крепостного сословия, есть человек служивый, царёв!
Как уж там он сдержался, чтобы не ответить служивому человеку матом, а может быть, и в морду, Ванька и сам не понял. Раньше и не подумал бы о таком, а сейчас…
После боя в нём многое переменилось. Раньше он, вполне, казалось бы, здраво, оценивал свои бойцовские возможности невысоко, то вот после с ним случилась некоторая переоценка ценностей… и возможностей.
Даже обрывки смешанных единоборств, которые он достаточно слабо знал в двадцать первом веке, и ни единого раза не отрабатывал в девятнадцатом, оказались не настолько бесполезными, как он думал. Пусть по больше части везение, пусть чудо… но ведь вспомнил же, и криво, косо… но выжил, и победил!
А фехтование? Всерьёз его не учили, воспринимая всё больше как манекен для отработки приёмов, но ведь, чёрт подери, учили…
Да и в седле, а хоть бы и без седла, охлюпкой, верхом он ездит так, как не всякий кавалерист способен. Одна из задач казачка – сопровождать барина на псовой охоте, в бешеной скачке по полям, уметь перетянуть нагайкой выметнувшегося из-под копыт зайца, и, было и такое (!) прямо с седла броситься на загнанного волка, удержать его, пока подоспевшие псари вяжут серого[6 - Распространённая практика в те времена.].
И пусть это был не матёрый волчара, а сеголеток, ну так и ему на тот момент не было ещё четырнадцати…
… но это всё не отменяет того факта, что он, Ванька, раб! Его можно пороть, бить в морду, продать, проиграть в карты и пропить. Он, Ванька, движимое имущество.
Выдохнув, он постарался выбросить прочь мысли о…
… разные мысли. Опасные.
Да и народ вокруг – тоже опасный, и его, Ванькины, навыки и умения, отнюдь не уникальны. Ну и самое главное… а потом что? Вот то-то…
Выдохнув ещё раз, и, чувствуя, как колотится сердце и пересыхает горло, он замер перед входом, как перед прыжком в пропасть, решаясь, и никак не в силах решиться. А потом, открыв потихонечку дверь, проскользнул, стараясь, чтобы дверь, эта предательница, не скрипела так отчаянно… но тщетно.
– А, сукин сын, явился? – заворочавшись на кровати, повернулся к нему барин, явив несветлый, и даже, прямо сказать, тёмный лик, ибо Его Благородие, как это уже бывало, изволило где-то извазюкаться, напоминая не то пародию на свинью, не то натурально чёрта.
– Не извольте гневаться, барин, – плаксиво запричитал Ванька, разом заходясь и от страха, и от отвращения к себе, – Всё, всё как вы изволили, сделал! Да вот незадача…
Даваясь воздухом и путаясь в словах, он начал рассказывать о грозном генерале, и о бастионе, и…
– Цыц! – прервал его Илья Аркадьевич, и, собравшись с силами, обругал его, щедро намешав всякой грязи в одно предложение.
– Ты, бляжий сын, постоянно меня подводишь… Х-хе! – барин, прервавшись, захихикал чему-то своему, – Бляжий сын, хе-хе… мамаша у тебя, байстрюка, блядь, и значит, ты тоже есть блядь… мужского рода, хе-хе!
Его Благородие почмокал губами, окинув Ваньку раздевающим взглядом.
– Будешь… – зевая, невнятно проговорил он, устраивая поудобней голову на подушке, – вину свою отрабатывать, хе-хе… по греческому… уых… обычаю.
Почти тут же поручик захрапел, пустив газы, а Ванька только зубы сжал – до боли, до судорог…
– Никогда, – прошептал он, сжимая кулаки и панически оглядывая убогую обстановку домишки, не зная толком, то ли ему бежать, то ли…
Глаза остановились на лежащем на столе ноже, но… нет, и для верности он отступил на шаг назад. Это слишком очевидно, а в петлю неохота.
Бежать? Найдут! Если только к противнику… но то ли патриотизм, то ли пропаганда, которой Ваньку щедро, от души, пичкали и в том, и в этом времени, но даже будучи некомбатантом, и потому, технически, не становясь предателем, переступить через себя он не мог даже в мыслях.
– Придавить, – шепнул он одними губами, примериваясь к подушке и решаясь, накачивая себя адреналином. Глаза заметались, отмечая мелкие детали, а в голове, хотя ещё ничего не было решено, уже начали складываться детали плана.
«– На спину, – судорожно думал он, сжимая кулаки, – подушку на лицо, и держать! Хотя нет… у него руки будут свободны, опасно. Коленом на руку наступить… н-нет, не то!»
Отойдя к столу, чтобы не соблазняться, он думал, кусая губу. Убить… он уже внутренне решился на это, но вот попадаться решительно не хочется!
Всё должно выглядеть максимально достоверно, и лучше бы Его Благородие просто умер во сне, захлебнувшись в собственной рвоте… по крайней мере, этому никто бы не удивился!
– Рвота, – всё так же беззвучно сказал он, бегая глазами по комнате, будто выискивая подсказки, и они нашлись!
Осторожно зачерпнув воды оловянной кружкой, он сцапал рукой полотенце со стола и сделал первый шаг к кровати. Слегка, как бы заботясь о барине, повернуть его в кровати, уложив на спину, а потом, выждав время, залить в храпящий рот воды, сунуть туда же тряпку и придавить подушкой!
А если барина в процессе не вырвет… он, Ванька, засунет два пальца себе в рот, и сблюёт на Его Благородие! И… пусть это будет глумлением над мёртвыми, но есть такие мёртвые, над которыми и поглумиться не грех!
Сглотнув, он сделал первый шаг, уже понимая, что прошёл точку не возврата, что решился…
… и в этот самый момент неподалёку гулко ахнуло, французы начали бомбардировку.
– Чёрт… – сдавленно ругнулся Ванька, сам не зная, чего он боится больше – того, что бомба из мортиры каким-то чудом попадёт таки в домик, или то, что проснётся этот чёртушко!
Одно из ядер, разорвавшись вблизи, выбило стёкла, и так-то собранные чёрт те из чего, и державшиеся больше на замазке.
– А? – заворочался барин, просыпаясь.
– Не извольте беспокоиться! – затараторил Ванька, но хозяин встал-таки, и, накинув на плечи китель, сделал пару шагов к окну.
– Дьявол! – тут же ругнулся он, заметив стекло, и тут же отвесив Ванька пинка босой ногой, – Прибери, живо!
Ванька, присев, начал собирать стекло, замерев ненадолго над длинным широким осколком, отдалённо напоминающим лезвие кинжала.
– Х-хе… Ганимед[7 - Ганимед – возлюбленный Зевса, его виночерпий на Олимпийских пирах, и символ однополой любви.], – послышалось сверху, и барская рука легла ему на затылок.
Подхватывая осколок, он вывернулся, вставая, и очень мягко, почти нежно, положил ладонь барину на лицо. Глаза хозяина стали масляными…
«– Твою мать! – всё так же мысленно подублировал он, совсем иначе оценивая дядьку Лукича и его знакомцев.
Да, они в лучшем случае еле могут читать и писать, но у каждого за плечами по двадцать пять лет непростой службы, и жизненный опыт, и умение налаживать отношения как с сослуживцами, так и с начальством, и выстраивать иерархию в кубрике, прибегая не только к насилию…
«– Это, получается, меня местному обчеству представили, – чуточки ёрнически постановил он, не вполне понимая, как к этому относиться. Наверное, хорошо… ведь хорошо же?
Отставники, ветераны в военном городе, они, наверное, могут… что-то. Будь он солдатом, или хотя бы ополченцем, старики, наверное, могли бы замолвить на него словечко, а так… но впрочем, лишним не будет. Наверное.
Домой…
… хотя какое там домой? В расположение Ванька добрался уже к самому вечеру, по темноте.
Он до самого верха переполнен впечатлениями, знакомствами и жидкостью в мочевом пузыре, потому что дошёл, а по большей части доехал, не сразу и не вдруг, передаваемый, как эстафетная палочка, с обязательными беседами и почти обязательным чаем, с каким-никаким, а угощением.
Эти знакомства, и отчасти размышления о них, несколько приглушили стресс. Хотя и понятно, что это ненадолго, но первое, и, наверное, самое тягостное ощущение от боя не на жизнь, а на смерть, от убийства, они сняли. Насколько этот терапевтический эффект окажется длительным, чёрт его знает…
– А-а, явился, – с предвкушающим злорадством констатировал попавшийся на дороге унтер, – Ну ужо барин задаст тебе сикурсу за этакое дезертирство! Как есть задаст!
Не сдержавшись, нетрезвый унтер от души наговорил всякого, из которого Ваньке стало ясно, что он, Ванька, есть холоп и раб, и Его Благородие для него хозяин. А он, унтер, пусть даже сам из крепостного сословия, есть человек служивый, царёв!
Как уж там он сдержался, чтобы не ответить служивому человеку матом, а может быть, и в морду, Ванька и сам не понял. Раньше и не подумал бы о таком, а сейчас…
После боя в нём многое переменилось. Раньше он, вполне, казалось бы, здраво, оценивал свои бойцовские возможности невысоко, то вот после с ним случилась некоторая переоценка ценностей… и возможностей.
Даже обрывки смешанных единоборств, которые он достаточно слабо знал в двадцать первом веке, и ни единого раза не отрабатывал в девятнадцатом, оказались не настолько бесполезными, как он думал. Пусть по больше части везение, пусть чудо… но ведь вспомнил же, и криво, косо… но выжил, и победил!
А фехтование? Всерьёз его не учили, воспринимая всё больше как манекен для отработки приёмов, но ведь, чёрт подери, учили…
Да и в седле, а хоть бы и без седла, охлюпкой, верхом он ездит так, как не всякий кавалерист способен. Одна из задач казачка – сопровождать барина на псовой охоте, в бешеной скачке по полям, уметь перетянуть нагайкой выметнувшегося из-под копыт зайца, и, было и такое (!) прямо с седла броситься на загнанного волка, удержать его, пока подоспевшие псари вяжут серого[6 - Распространённая практика в те времена.].
И пусть это был не матёрый волчара, а сеголеток, ну так и ему на тот момент не было ещё четырнадцати…
… но это всё не отменяет того факта, что он, Ванька, раб! Его можно пороть, бить в морду, продать, проиграть в карты и пропить. Он, Ванька, движимое имущество.
Выдохнув, он постарался выбросить прочь мысли о…
… разные мысли. Опасные.
Да и народ вокруг – тоже опасный, и его, Ванькины, навыки и умения, отнюдь не уникальны. Ну и самое главное… а потом что? Вот то-то…
Выдохнув ещё раз, и, чувствуя, как колотится сердце и пересыхает горло, он замер перед входом, как перед прыжком в пропасть, решаясь, и никак не в силах решиться. А потом, открыв потихонечку дверь, проскользнул, стараясь, чтобы дверь, эта предательница, не скрипела так отчаянно… но тщетно.
– А, сукин сын, явился? – заворочавшись на кровати, повернулся к нему барин, явив несветлый, и даже, прямо сказать, тёмный лик, ибо Его Благородие, как это уже бывало, изволило где-то извазюкаться, напоминая не то пародию на свинью, не то натурально чёрта.
– Не извольте гневаться, барин, – плаксиво запричитал Ванька, разом заходясь и от страха, и от отвращения к себе, – Всё, всё как вы изволили, сделал! Да вот незадача…
Даваясь воздухом и путаясь в словах, он начал рассказывать о грозном генерале, и о бастионе, и…
– Цыц! – прервал его Илья Аркадьевич, и, собравшись с силами, обругал его, щедро намешав всякой грязи в одно предложение.
– Ты, бляжий сын, постоянно меня подводишь… Х-хе! – барин, прервавшись, захихикал чему-то своему, – Бляжий сын, хе-хе… мамаша у тебя, байстрюка, блядь, и значит, ты тоже есть блядь… мужского рода, хе-хе!
Его Благородие почмокал губами, окинув Ваньку раздевающим взглядом.
– Будешь… – зевая, невнятно проговорил он, устраивая поудобней голову на подушке, – вину свою отрабатывать, хе-хе… по греческому… уых… обычаю.
Почти тут же поручик захрапел, пустив газы, а Ванька только зубы сжал – до боли, до судорог…
– Никогда, – прошептал он, сжимая кулаки и панически оглядывая убогую обстановку домишки, не зная толком, то ли ему бежать, то ли…
Глаза остановились на лежащем на столе ноже, но… нет, и для верности он отступил на шаг назад. Это слишком очевидно, а в петлю неохота.
Бежать? Найдут! Если только к противнику… но то ли патриотизм, то ли пропаганда, которой Ваньку щедро, от души, пичкали и в том, и в этом времени, но даже будучи некомбатантом, и потому, технически, не становясь предателем, переступить через себя он не мог даже в мыслях.
– Придавить, – шепнул он одними губами, примериваясь к подушке и решаясь, накачивая себя адреналином. Глаза заметались, отмечая мелкие детали, а в голове, хотя ещё ничего не было решено, уже начали складываться детали плана.
«– На спину, – судорожно думал он, сжимая кулаки, – подушку на лицо, и держать! Хотя нет… у него руки будут свободны, опасно. Коленом на руку наступить… н-нет, не то!»
Отойдя к столу, чтобы не соблазняться, он думал, кусая губу. Убить… он уже внутренне решился на это, но вот попадаться решительно не хочется!
Всё должно выглядеть максимально достоверно, и лучше бы Его Благородие просто умер во сне, захлебнувшись в собственной рвоте… по крайней мере, этому никто бы не удивился!
– Рвота, – всё так же беззвучно сказал он, бегая глазами по комнате, будто выискивая подсказки, и они нашлись!
Осторожно зачерпнув воды оловянной кружкой, он сцапал рукой полотенце со стола и сделал первый шаг к кровати. Слегка, как бы заботясь о барине, повернуть его в кровати, уложив на спину, а потом, выждав время, залить в храпящий рот воды, сунуть туда же тряпку и придавить подушкой!
А если барина в процессе не вырвет… он, Ванька, засунет два пальца себе в рот, и сблюёт на Его Благородие! И… пусть это будет глумлением над мёртвыми, но есть такие мёртвые, над которыми и поглумиться не грех!
Сглотнув, он сделал первый шаг, уже понимая, что прошёл точку не возврата, что решился…
… и в этот самый момент неподалёку гулко ахнуло, французы начали бомбардировку.
– Чёрт… – сдавленно ругнулся Ванька, сам не зная, чего он боится больше – того, что бомба из мортиры каким-то чудом попадёт таки в домик, или то, что проснётся этот чёртушко!
Одно из ядер, разорвавшись вблизи, выбило стёкла, и так-то собранные чёрт те из чего, и державшиеся больше на замазке.
– А? – заворочался барин, просыпаясь.
– Не извольте беспокоиться! – затараторил Ванька, но хозяин встал-таки, и, накинув на плечи китель, сделал пару шагов к окну.
– Дьявол! – тут же ругнулся он, заметив стекло, и тут же отвесив Ванька пинка босой ногой, – Прибери, живо!
Ванька, присев, начал собирать стекло, замерев ненадолго над длинным широким осколком, отдалённо напоминающим лезвие кинжала.
– Х-хе… Ганимед[7 - Ганимед – возлюбленный Зевса, его виночерпий на Олимпийских пирах, и символ однополой любви.], – послышалось сверху, и барская рука легла ему на затылок.
Подхватывая осколок, он вывернулся, вставая, и очень мягко, почти нежно, положил ладонь барину на лицо. Глаза хозяина стали масляными…