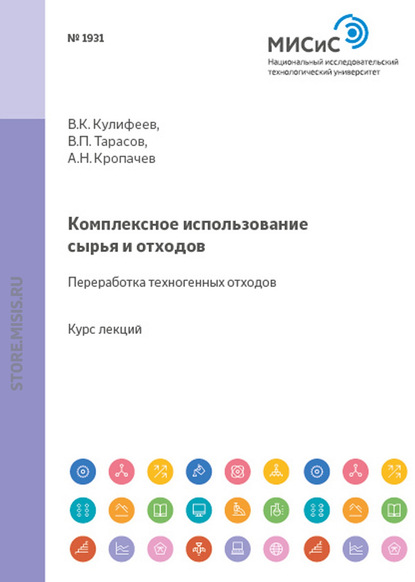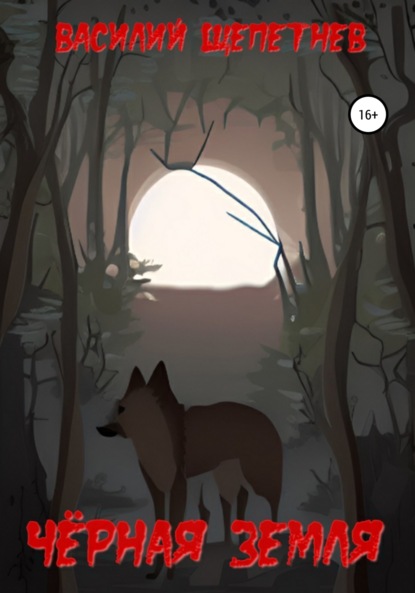По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чёрная Земля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Самовар сопел, не обращая внимание на чаевничающих.
– Подумаем. Осенью. Сейчас не до того, – ответил, отметая назойливых мух.
– Осенью, то само собой. Сейчас бы для начала хоть трошки – литературу, книг приобрести, всякую мелочь.
Хозяин сделал вид, что не слышит.
– Чай вот добрый, Никитинский. Из города куплен. Пейте, пейте, и сахару не забывайте, – сахар был – вприкуску. Сколы, белые, хрупкие, лежали в сахарнице. Голубая, тонкого фарфора, сахарница меж грубой фаянсовой посуды казалась институткой на трудовой повинности.
– Благодарствуем. Пора нам, – и Василь откланялся. То есть, он не кланялся, просто встал, повел неопределенно рукой – и все.
– Спасибо, – Никифоров поставил недопитое блюдце на стол. Уходить не хотелось, но он здесь – не главный.
– Я не копейки просить зашел, – объяснял Василь, когда они отошли подальше. – Прощупывал. Как он чувствует себя.
– Зачем?
– Убили-то на его земле. Любой бы волновался. А он – спокойствие выпячивает, не причем-де я.
– Ведь Костюхин на свадьбе был.
– Так-то оно так, а все же… Ничего, пусть знает, что мы не простачки, поволнуется. Чай Никитинский пьет, подумать…
– А богатое у вас село, – переменил тему Никифоров. – Дома какие…
– Немалые, – охотно согласился Василь. – Что дома, дома – это снаружи. Подвалы под ними – поболее будут.
– Подвалы?
– Конечно. Вино где хранить? От века село виноделием промышляет. Бочки – на заказ, стоведерные встречаются. Думаешь, по земле идешь, а под тобой винища – море разливанное. Правда, ненадежный нынче промысел.
– Отчего же?
– Вино, особенно дорогое, оно для дворцов, а у нас дворцам война. Нэпманов поприжмут, кто ж станет по червонцу за бутылку платить? Рабочему человеку водочка милее, она без обману хлопнешь стопку, и тепло, и весело. Ты как, употребляешь?
– Иногда, – вчерашняя отвальная выглядела сейчас иначе, но повторять все еще не хотелось.
– Отец твой меру знал. А вот здесь товарищ Купа живет. И я с ним, по-родственному.
Дом был не менее других, но – несвежий, неряшливый, дом – на время. Дырявая плетеная корзина, валявшаяся на земле, вольный бурьян у загороди, беспрестанно трепыхавшиеся на веревке тряпки, повешенные, верно, для просушки и забытые до нужды в них.
Василь приоткрыл калитку, скрипнувшую на сухих петлях.
– Тебя не зову. Товарищу Купе, сам понимаешь, не до гостей.
– Понимаю, понимаю, – забормотал Никифоров.
– Теперь, ежели что, знаешь, где меня найти. Погуляй, а мне пора.
Никифорову гулять не хотелось. Да и вечереет. Он повернул назад, к знакомым местам. Потихоньку, не разом все село в друзьях станет. А молодежи много. Он видел, как бойко бегала детвора, а те, кто постарше, переговаривались, поглядывая в его, Никифорова, сторону.
К церкви он поднялся, когда солнце стало большим и красным. Красивое время.
Внутри было, как в паровозной топке, огненно. Просто пожар. Но на пожаре жарко, а здесь огонь холодный, бабий. Он передернул плечами, больше от нервов, не замерз же он, в самом деле, не так уж тут и зябко. Прохладно, вот верное слово: прохладно. Градусов восемнадцать, девятнадцать. Ну, а снаружи все тридцать, оттого и кажется – мороз. Никифоров окинул взглядом стены, вверх, до купола. Пришлось потрудиться не на шутку – забелить все. Леса, должно быть, ставили, иначе не достать ведь. Впрочем, работа спешная, неважнец.
Он заторопился в свою келью студента, так назвал он каморку, в которой предстояло провести лето. Сейчас Никифоров жалел, что не знает архитектуры. Нефы, порталы, алтарь, хоры, притвор – вертелись в голове названия, вычитанные из книг, рыцарских романов. В них, правда, про другие церкви писали, католические. А кельи – это в монастырях, кажется. Пусть.
Каморка показалась тюрьмой. И так все лето – в одиночке просидеть? Шлиссельбургский узник, а не практикант. Отчаянно захотелось домой. Нечего, нечего нюнить, погоди, день-другой минует, обзаведешься дружками – представил он реакцию отца.
От стука в окошко он вздрогнул, но и обрадовался тоже. Не иначе, проведать пришли. Никифоров откинул крючок, распахнул окошко во всю ширь. Нет, это всего-навсего малец, что обед приносил.
– Ужин, – коротко буркнул малец, протягивая в окно торбу.
– Ты заходи, чего так-то, нехорошо.
– Не, – малец мотнул головой. Как уши не оторвались.
Никифоров опорожнил торбу. Брынза, хлеб, зелень. Сложил вовнутрь посуду с обеда, отдал мальчонке. Тот подхватил торбу и – поминай.
Ладно, а сам-то? На стены глядел, купол, побелку оценивал, нефы вспоминал – затем лишь, чтобы на мертвую не смотреть. С собой лукавить ни к чему. Суеверие, пережитки.
Окно Никифоров закрывать не стал – тепло снаружи, теплее, чем здесь. Есть не хотелось, сыт. Нечего тянуть. Он вернулся в зал.
Закат отбушевал, лишь поверху розовело, и то – самую малость. У гроба возился один из недавно приходивших, Никифоров его не запомнил, да не беда, перезнакомится.
– На кузне сделали, – встретил Никифорова парень.
На подставке у гроба стоял каркас звезды, пятиконечной, из тонких, с карандаш, металлических прутьев. Парень прилаживал к звезде материю, красный тонкий ситец.
– А внутри свечу зажжем, получится огненная, – пояснил он. Потом, приладив, наконец, лоскут, сказал:
– Меня Еремой кличут, ты, небось, позабыл?
– Позабыл, – признался Никифоров.
– Понятно. Я бы тоже. Сколько вон нас-то. Ты садись, – Ерема подвинулся, освобождая место на скамье. – Сейчас свечи запалю, сразу светлее станет.
Действительно, темнота сгущалась быстро, что в дальнем конце зала – и не разглядеть. А ничего там нет, совсем ничего.
Языки на кончиках фитилей замигали, заплясали, разгораясь.
– Красиво будет, – Ерема поставил одну из горящих свечей внутрь звезды.
– Не загорится? – сказал Никифоров, чтобы хоть что-нибудь сказать.
– Не должно, не впервой.
Теперь свечи горели спокойно, ровно. Странно, стало как-то темнее, за исключением небольшого круга – скамья, подставка, гроб.