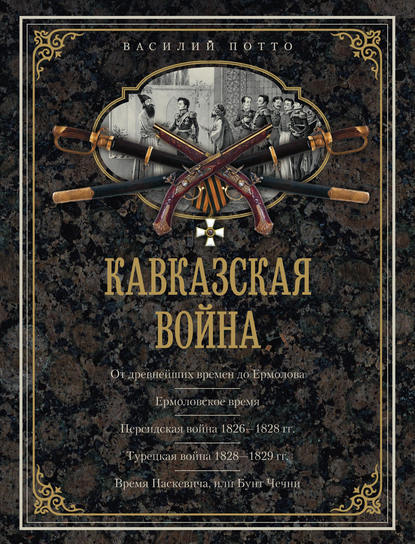По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кавказская война. В очерках, эпизодах, легендах и биографиях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нельзя не заметить, что Платову в это время было только двадцать три года. Он был моложе Ларионова летами и службой, но его энергия и нравственное влияние на казаков были так велики, что фактическое командование отрядом само собой перешло в его руки.
Было часов восемь утра, когда громадная сила татар со всех сторон обложила казачий стан, укрывшийся за утлой оградой, которую никто бы в наше время не осмелился назвать укреплением. Казаки увидели, как развернулось большое ханское знамя и как толпа, приветствовавшая его появление диким ревом, двинулась на приступ.
Первое нападение, однако же, было отбито – казаки устояли. Но бежавшие татары тотчас сменились другими, свежими толпами, и за первым приступом последовал второй, за вторым – третий, четвертый, пятый… Боковые фасы укрепления сплошь завалились телами побитых татар, но по этим трупам ломились и лезли в вагенбург все новые и новые люди… Рук недоставало, чтобы везде отбивать нападающих. А между тем, не сдержи казаки напора где-нибудь в одном месте, гибель всех была бы неизбежной. Платов сам обходил ряды и увещевал всех постоять до конца за тихий Дон, за матушку-царицу.
Семь приступов уже было отбито, начинался восьмой, и сомнение мало-помалу стало закрадываться в сердца даже этих железных защитников. Тогда старый боец, еще недавно прославивший себя молодецкой битвой, полковник Ларионов отозвал Платова в сторону.
– Посланные тобой казаки, – сказал он ему, – вероятно, погибли; мы истощили все силы, большая часть лошадей наших перебита, и без особой помощи свыше нам нельзя ожидать спасения…
– Что же ты хочешь сказать этим? – перебил его Платов.
– Я думаю, – продолжал Ларионов, – что нам благоразумнее выговорить себе какие-нибудь условия, чем бесполезно продолжать оборону.
– Нет! Никогда! – воскликнул Платов. – Лучше умрем, нежели покроем стыдом и позором честь нашей отчизны.
– На что же ты надеешься? – спросил Ларионов.
– На Бога, и верю, что Он не оставит нас своей помощью.
Ларионов молча пожал ему руку.
В это самое время Платов, пристально вглядывавшийся в степь, вдруг радостно перекрестился. Ему показалось на самом горизонте большое серое облако, которое быстро росло, ширилось и вдруг зарябило многими точками. Эти точки отчетливо и ясно стали вырисовываться в прозрачной синеве вечернего воздуха, и зоркий глаз степняка безошибочно угадал в них скачущих всадников.
– Ребята! – воскликнул Платов. – Смотрите, уж это не наши ли скачут на выручку?..
– Наши! Наши! – закричали казаки, и сотни рук поднялись, чтобы сотворить крестное знамение.
Помощь действительно была недалеко.
Один из казаков, посланных Платовым, был убит, но другой доскакал до Бухвостова и передал ему известие, которое мгновенно подняло на ноги целый отряд. Гусары, казаки, драгуны бросились седлать лошадей. Шумный говор пошел по всему бивуаку. Одни татары, узнав о близости Девлета, пришли в отчаяние и ни за что не хотели следовать за нашими войсками. Уговаривать их было некогда. Пока Бухвостов с эскадроном ахтырских гусар и с легкой драгунской командой выезжал из лагеря, полковник Уваров со своим казачьим полком уже был далеко впереди и прежде всех подоспел на помощь. Минута – и двести – триста казаков с опущенными пиками врезались в тыл неприятелю. Это была атака отчаянная, безумная, не оправдываемая ничем, кроме слепой и дерзкой отваги, но именно эти-то свойства ее и имели решающее влияние на судьбу Калалахской битвы. Десятки тысяч людей, несомненно храбрых, вдруг дрогнули и, смешавшись, как робкое стадо, обратились в неудержимое бегство. Началась паника – та страшная паника, которая безотчетно охватывает массы и подчиняет их одному только животному инстинкту самоспасения. Казаки, преследуя бегущих, нагнали их прямо на отряд Бухвостова, который принял их картечью из четырех орудий. Это был финал, после которого все татарское скопище разбежалось в разные стороны, и собрать его не представлялось уже никакой возможности.
Казакам досталась богатая добыча. На месте боя они собрали и похоронили свыше пятисот неприятельских трупов. У Платонова выбыло из строя только восемьдесят два человека, но до шестисот лошадей, так что большая половина его отряда осталась пешей.
«Платов, – доносил Бухвостов, – будучи в огне, оказался вполне неустрашимым; он сумел ободрить своих подчиненных, приходивших уже в отчаяние, и этим способом удержал их в слабом укреплении до моего прибытия. Затем, во время преследования, он с величайшей опасностью для жизни бросился на многочисленные толпы неприятеля, подавая пример своим подчиненным, особенно в лесном сражении близ Кубани, где ободренные им спешенные казаки оказали храбрость примерную».
«Если кому-нибудь придется быть в таком же положении, – говорит известный наш партизан Д. В. Давыдов, – тот пусть вспомнит подвиг молодого Платова и успех увенчает его оружие. Фортуна, не всегда слепая, возведет, быть может, твердого воина на ту же степень славы, на которую вознесла она и маститого героя Дона».
Калалахская битва была выиграна. Дон был спасен от погрома, и с этих пор казаки заговорили о Платове как о чем-то чудесном. Начальство обратило на него особенное внимание, и даже вся армия, двор и сама императрица узнали его имя. Но всех более полюбил его знаменитый Потемкин, который до самой смерти своей оставался истинным его благодетелем и покровителем. Калалахское сражение было, можно сказать, яркой зарей блистательной славы, которая сделалась с тех пор неразлучной спутницей его на военном поприще.
Дальнейшая служба Платова не принадлежит Кавказу. Только раз он еще возвратился сюда в качестве походного атамана во время Персидского похода графа Зубова, но этот кратковременный поход не дал ему случая совершить что-нибудь достойное его имени.
В 1806 году, будучи уже войсковым атаманом, он в первый раз повел свои донские полки на битвы с французами и с этих пор до взятия Парижа, можно сказать, не вынимал ноги из боевого стремени, совершая ряд громких подвигов. Одни донцы под предводительством Платова отбили от французов в 1812 году тридцать знамен и взяли в плен десять генералов и семьдесят нижних чинов. Насколько популярно было тогда имя Платова в Европе, можно судить по следующим фактам. В Лондоне, в общем собрании сословий города, было постановлено, в признательность великим подвигам Платова, поднести ему от лица английского народа драгоценную саблю в золотой художественной оправе. Сабля эта составляет и поныне фамильную святыню графов Платовых. На эфесе ее на одной стороне по эмали изображен соединенный герб Ирландии и Великобритании, а на другой – вензелевое изображение имени Платова; верх рукоятки покрыт алмазами; на ножнах медальоны превосходной чеканки изображают подвиги и славу героя; на клинке – соответствующая надпись. Большой портрет атамана помещен в королевском дворце рядом с портретами Блюхера и Веллингтона – изображения трех главных бичей ненавистного для англичан французского императора. Под этим портретом висит картина, изображающая знаменитого белого коня – верного и неразлучного спутника атамана во всех боях, написанная по приказанию принца-регента одним из знаменитейших в то время лондонских художников. Коня этого в полном казацком уборе Платов, тронутый сочувствием к себе английского народа, подарил, уезжая из Лондона, принцу-регенту, как представителю могущественного государства. Донской красавец был принят на королевские конюшни и кончил жизнь вдали от родных степей.
Возвратившись на Дон генералом от кавалерии, графом и с бриллиантовыми знаками Андреевского ордена, Платов думал еще посвятить остаток своих дней внутреннему благоустройству родины. Но смерть уже стерегла его, и 3 января 1818 года маститый атаман скончался в своем небольшом поместье около Таганрога, шестидесяти семи лет от роду. Рассказывают, будто бы легендарный богатырь, сломленный тяжелым недугом, в последние минуты произнес следующие слова: «Слава! Слава! Где ты? И на что ты мне теперь пригодилась?»
Прах атамана покоится ныне близ Новочеркасска, в фамильном склепе Мишкинской церкви; белая мраморная плита указывает место его погребения, и теплится вечная неугасимая лампада перед иконой. Роскошный памятник работы известного скульптора Мартоса, стоявший когда-то над самой могилой графа, теперь перенесен и поставлен впереди алтаря.
Но есть и другой памятник, воздвигнутый Платову по повелению императора Николая Павловича, желавшего увековечить память донского героя в назидание будущим поколениям нашего казачества. Этот прекрасный монумент, исполненный бароном Клодтом, стоит в Новочеркасске среди обширной площади и представляет «вихря-атамана» в развевающейся бурке, с гетманской булавой в одной и с обнаженной саблей в другой руке, как бы устремляющегося с восставшим населением Дона в битвы на врагов России. Вся фигура, отлитая из бронзы, дышит энергией и силой.
«Долго и в раздумье стоишь перед этим изображением, – говорит один путешественник, – а в голове мелькают события славного 1812 года, и в памяти невольно воскресают строфы Жуковского из его «Певца во стане русских воинов»:
Хвала! Наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан —
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу – ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту – мост исчез;
Лишь к селам – пышут села».
VI. ГЕРОЙСКАЯ ОБОРОНА НАУРСКОЙ СТАНИЦЫ В 1774 ГОДУ
Оборона Наурской станицы моздокскими казаками 10 июня 1774 года представляет собой один из тех подвигов, которые, не имея большого политического и военного значения, вместе с тем невольно останавливают на себе внимание и современников и потомства, поражая ум и воображение. И в летописях царствования великой императрицы русской, столь славного богатырскими делами, и в летописях Кавказской войны этот эпизод должен занять место между славными подвигами, прославившими русское имя.
Была первая турецкая война, и Наурскую станицу обложило восьмитысячное скопище татар, кабардинцев и турок под предводительством калги из рода крымских султанов. Строевые казаки еще не возвращались из похода, и дома оставались только старики, женщины, дети и легионная команда. У неприятеля был явный расчет захватить врасплох беззащитных жителей станицы, которая едва только устраивалась, хотя, правда, и была обнесена валом и снабжена орудиями. Неприятель не знал, однако же, с кем будет иметь дело, и встретил небывалое войско с небывалым оружием. Разряженные наурские казачки в красных сарафанах вышли на защиту родного города и отражали неприятельские приступы наряду с мужьями и братьями. На женщин, между прочим, была возложена обязанность поддерживать костры, разогревать смолу и лить со стен кипяток на головы штурмующих. Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся к обеду, шли у казаков на дело защиты.
Оборона Наура была первым случаем, когда от кавказской женщины понадобилась серьезная и опасная боевая служба. Впоследствии она уже не расставалась с ней и сроднилась как с чем-то неизбежным среди суровой обстановки порубежного быта. Моздокские казачки не пугались ни свиста вражеских пуль, ни стрел, ни дикого рева и гика нападающих неприятелей. Спокойно, рядом со старыми волжскими бойцами встречали они яростные атаки татар, защищались серпами, косили косами смельчаков, появлявшихся на земляном валу станицы. Чугунные пушки перевозились на людях с места на место, смотря по тому, откуда усиливался приступ.
Несколько отбитых штурмов дорого стоили татарам. Полагают, что их потеря простиралась до восьмисот человек и что большая часть ее пала на кабардинцев. В числе убитых кабардинцев был и один из известных владельцев, князь Кагока Татарханов, и тело его осталось на поле сражения. Уже одно это обстоятельство показывает, как сильно было смятение татар, считающих священным долгом выносить из боя тела убитых товарищей, а тем более вождей и предводителей.
Целый день длилась кровавая борьба за обладание Науром, и целый день, истомленные боем, наурцы ожидали выручки, но выручка не появлялась. Станица Червленная лежала всего в сорока верстах, но сообщение с ней было прервано.
Говорят, что в Червленной был слышен гул пушечных выстрелов, но что командир пехотного полка, расположенного в станице, почему-то думал, что у наурцев идет совсем не кровавая драма, а водевиль с потешными огнями, до которых, нужно сказать мимоходом, был великий любитель начальник моздокских казаков старый полковник Савельев.
Так прошел день 10 июня. 11-го с рассветом вновь загремели казацкие пушки, но, к общему удивлению, неприятель быстро стал отходить от станичных валов, и скоро беспорядочные толпы его скрылись из глаз изумленных наурцев. Никто не знал и не догадывался о настоящей причине столь поспешного отступления вражеского табора, и уже впоследствии только стали говорить, что снятием осады Наур обязан был казаку Перепорху, наведшему орудие прямо на высокий курган, где стояла ставка калги, и счастливым выстрелом убившему любимого племянника предводителя. В этой случайности калга увидел для себя дурное предзнаменование и больше не хотел оставаться на тех полях, которые обагрены были неповинной кровью юноши…
Спустя много лет после этого события, в 1838 году, казаки разрывали однажды станичный курган, на котором, по рассказам их дедов, стояла ставка крымского султана, и действительно нашли в земле человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Кто знает, быть может, это и были останки того человека, случайная смерть которого решила участь наурской осады.
Хотя рассказ о казаке Перепорхе и его удачном выстреле и довольно популярен среди жителей Наурской станицы, но большинство казаков и доныне приписывает снятие осады и бегство неприятеля только особому Божьему покровительству. Предание говорит, что на заре 11 июня, в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, два всадника на белых конях и в белой одежде проехали вдоль вражеского стана и навели на татар панический ужас. В ознаменование этого события в наурской церкви устроен даже придел во имя апостолов Варфоломея и Варнавы, и день 11 июня празднуется в Моздокском полку до настоящего времени.
«Это бабий праздник», – говорят о нем казаки, вспоминая славное участие, которое приняло в бою женское население станицы. Многие из представительниц славного дела дожили до позднейшего времени, и посетители Наура еще не очень давно встречали старых героинь, украшенных медалями за его оборону.
Видная роль, выпавшая на долю женщины-казачки при защите Наура, была особенной причиной, почему кабардинцы долго не могли забыть позора своего поражения. Даже мирные из них старались не встречаться с моздокским казаком, боясь насмешек насчет того, «как Кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими бабами». Когда же приходилось встречать кого-нибудь из них с обожженным лицом, то казак и казачка не пропускали, бывало, случая позубоскалить над злополучным джигитом.
– А что, дос (приятель), не щи ли в Науре хлебал? – спросит, бывало, линеец и провожает добродушным смехом угрюмо молчащего кабардинца.
VII. НЕУДАЧНЫЙ ПОХОД ТОТЛЕБЕНА В ГРУЗИЮ
18 ноября 1768 года была объявлена турецкая война. Екатерининские армии под начальством князей Голицына и Долгорукова двинулись к Днестру и к Перекопу, и сверх того сформированы были еще два отдельных самостоятельных отряда, назначавшиеся к военным действиям, – один на Кубани, у подножия Кавказских гор, а другой – по ту сторону гор, в Закавказье, в древней Колхиде и Иверии.
Отделенные от нас высокой кавказской стеной, народы картвельского племени составляли в то время четыре государства: Грузию, Имеретию, Менгрелию и Гурию. Грузия была сильнейшей из них, но, раздираемая внутренними смутами и междоусобицами, она не могла иметь влияния на судьбы сопредельных с ней христианских государств, из которых каждое жило своей особенной жизнью.
Просвещенная светом истинной веры почти за шестьсот лет до крещения Владимиром Киева, древняя Иверия оставила много исторических памятников прежнего своего величия, но золотой век ее миновал уже в XII столетии, когда Древняя Русь еще только начинала свое политическое существование.
Иверия пережила много невзгод, история ее есть длинный мартиролог иверийского народа. Грузинская территория, лежащая на великом перекрестке переселения народов, через который прошли, сталкиваясь между собой, многочисленные племена Азии и Европы, была постоянной ареной борьбы, и потоки крови пришельцев и туземцев обагряли поля ее. Сильная некогда Грузия наконец стала изнемогать в борьбе с могучими соседями, злополучный край попеременно стали терзать то персияне, то турки, то лезгины. И между тем как иверийский народ, сильный духом и верой, напрягал последние силы в борьбе с магометанским миром, цари Имеретии уже спокойно выносили вековую зависимость от Порты, а остальные государства, Менгрелия и Гурия, совсем подпали под ее влияние и даже отурчились и обасурманились.
Было часов восемь утра, когда громадная сила татар со всех сторон обложила казачий стан, укрывшийся за утлой оградой, которую никто бы в наше время не осмелился назвать укреплением. Казаки увидели, как развернулось большое ханское знамя и как толпа, приветствовавшая его появление диким ревом, двинулась на приступ.
Первое нападение, однако же, было отбито – казаки устояли. Но бежавшие татары тотчас сменились другими, свежими толпами, и за первым приступом последовал второй, за вторым – третий, четвертый, пятый… Боковые фасы укрепления сплошь завалились телами побитых татар, но по этим трупам ломились и лезли в вагенбург все новые и новые люди… Рук недоставало, чтобы везде отбивать нападающих. А между тем, не сдержи казаки напора где-нибудь в одном месте, гибель всех была бы неизбежной. Платов сам обходил ряды и увещевал всех постоять до конца за тихий Дон, за матушку-царицу.
Семь приступов уже было отбито, начинался восьмой, и сомнение мало-помалу стало закрадываться в сердца даже этих железных защитников. Тогда старый боец, еще недавно прославивший себя молодецкой битвой, полковник Ларионов отозвал Платова в сторону.
– Посланные тобой казаки, – сказал он ему, – вероятно, погибли; мы истощили все силы, большая часть лошадей наших перебита, и без особой помощи свыше нам нельзя ожидать спасения…
– Что же ты хочешь сказать этим? – перебил его Платов.
– Я думаю, – продолжал Ларионов, – что нам благоразумнее выговорить себе какие-нибудь условия, чем бесполезно продолжать оборону.
– Нет! Никогда! – воскликнул Платов. – Лучше умрем, нежели покроем стыдом и позором честь нашей отчизны.
– На что же ты надеешься? – спросил Ларионов.
– На Бога, и верю, что Он не оставит нас своей помощью.
Ларионов молча пожал ему руку.
В это самое время Платов, пристально вглядывавшийся в степь, вдруг радостно перекрестился. Ему показалось на самом горизонте большое серое облако, которое быстро росло, ширилось и вдруг зарябило многими точками. Эти точки отчетливо и ясно стали вырисовываться в прозрачной синеве вечернего воздуха, и зоркий глаз степняка безошибочно угадал в них скачущих всадников.
– Ребята! – воскликнул Платов. – Смотрите, уж это не наши ли скачут на выручку?..
– Наши! Наши! – закричали казаки, и сотни рук поднялись, чтобы сотворить крестное знамение.
Помощь действительно была недалеко.
Один из казаков, посланных Платовым, был убит, но другой доскакал до Бухвостова и передал ему известие, которое мгновенно подняло на ноги целый отряд. Гусары, казаки, драгуны бросились седлать лошадей. Шумный говор пошел по всему бивуаку. Одни татары, узнав о близости Девлета, пришли в отчаяние и ни за что не хотели следовать за нашими войсками. Уговаривать их было некогда. Пока Бухвостов с эскадроном ахтырских гусар и с легкой драгунской командой выезжал из лагеря, полковник Уваров со своим казачьим полком уже был далеко впереди и прежде всех подоспел на помощь. Минута – и двести – триста казаков с опущенными пиками врезались в тыл неприятелю. Это была атака отчаянная, безумная, не оправдываемая ничем, кроме слепой и дерзкой отваги, но именно эти-то свойства ее и имели решающее влияние на судьбу Калалахской битвы. Десятки тысяч людей, несомненно храбрых, вдруг дрогнули и, смешавшись, как робкое стадо, обратились в неудержимое бегство. Началась паника – та страшная паника, которая безотчетно охватывает массы и подчиняет их одному только животному инстинкту самоспасения. Казаки, преследуя бегущих, нагнали их прямо на отряд Бухвостова, который принял их картечью из четырех орудий. Это был финал, после которого все татарское скопище разбежалось в разные стороны, и собрать его не представлялось уже никакой возможности.
Казакам досталась богатая добыча. На месте боя они собрали и похоронили свыше пятисот неприятельских трупов. У Платонова выбыло из строя только восемьдесят два человека, но до шестисот лошадей, так что большая половина его отряда осталась пешей.
«Платов, – доносил Бухвостов, – будучи в огне, оказался вполне неустрашимым; он сумел ободрить своих подчиненных, приходивших уже в отчаяние, и этим способом удержал их в слабом укреплении до моего прибытия. Затем, во время преследования, он с величайшей опасностью для жизни бросился на многочисленные толпы неприятеля, подавая пример своим подчиненным, особенно в лесном сражении близ Кубани, где ободренные им спешенные казаки оказали храбрость примерную».
«Если кому-нибудь придется быть в таком же положении, – говорит известный наш партизан Д. В. Давыдов, – тот пусть вспомнит подвиг молодого Платова и успех увенчает его оружие. Фортуна, не всегда слепая, возведет, быть может, твердого воина на ту же степень славы, на которую вознесла она и маститого героя Дона».
Калалахская битва была выиграна. Дон был спасен от погрома, и с этих пор казаки заговорили о Платове как о чем-то чудесном. Начальство обратило на него особенное внимание, и даже вся армия, двор и сама императрица узнали его имя. Но всех более полюбил его знаменитый Потемкин, который до самой смерти своей оставался истинным его благодетелем и покровителем. Калалахское сражение было, можно сказать, яркой зарей блистательной славы, которая сделалась с тех пор неразлучной спутницей его на военном поприще.
Дальнейшая служба Платова не принадлежит Кавказу. Только раз он еще возвратился сюда в качестве походного атамана во время Персидского похода графа Зубова, но этот кратковременный поход не дал ему случая совершить что-нибудь достойное его имени.
В 1806 году, будучи уже войсковым атаманом, он в первый раз повел свои донские полки на битвы с французами и с этих пор до взятия Парижа, можно сказать, не вынимал ноги из боевого стремени, совершая ряд громких подвигов. Одни донцы под предводительством Платова отбили от французов в 1812 году тридцать знамен и взяли в плен десять генералов и семьдесят нижних чинов. Насколько популярно было тогда имя Платова в Европе, можно судить по следующим фактам. В Лондоне, в общем собрании сословий города, было постановлено, в признательность великим подвигам Платова, поднести ему от лица английского народа драгоценную саблю в золотой художественной оправе. Сабля эта составляет и поныне фамильную святыню графов Платовых. На эфесе ее на одной стороне по эмали изображен соединенный герб Ирландии и Великобритании, а на другой – вензелевое изображение имени Платова; верх рукоятки покрыт алмазами; на ножнах медальоны превосходной чеканки изображают подвиги и славу героя; на клинке – соответствующая надпись. Большой портрет атамана помещен в королевском дворце рядом с портретами Блюхера и Веллингтона – изображения трех главных бичей ненавистного для англичан французского императора. Под этим портретом висит картина, изображающая знаменитого белого коня – верного и неразлучного спутника атамана во всех боях, написанная по приказанию принца-регента одним из знаменитейших в то время лондонских художников. Коня этого в полном казацком уборе Платов, тронутый сочувствием к себе английского народа, подарил, уезжая из Лондона, принцу-регенту, как представителю могущественного государства. Донской красавец был принят на королевские конюшни и кончил жизнь вдали от родных степей.
Возвратившись на Дон генералом от кавалерии, графом и с бриллиантовыми знаками Андреевского ордена, Платов думал еще посвятить остаток своих дней внутреннему благоустройству родины. Но смерть уже стерегла его, и 3 января 1818 года маститый атаман скончался в своем небольшом поместье около Таганрога, шестидесяти семи лет от роду. Рассказывают, будто бы легендарный богатырь, сломленный тяжелым недугом, в последние минуты произнес следующие слова: «Слава! Слава! Где ты? И на что ты мне теперь пригодилась?»
Прах атамана покоится ныне близ Новочеркасска, в фамильном склепе Мишкинской церкви; белая мраморная плита указывает место его погребения, и теплится вечная неугасимая лампада перед иконой. Роскошный памятник работы известного скульптора Мартоса, стоявший когда-то над самой могилой графа, теперь перенесен и поставлен впереди алтаря.
Но есть и другой памятник, воздвигнутый Платову по повелению императора Николая Павловича, желавшего увековечить память донского героя в назидание будущим поколениям нашего казачества. Этот прекрасный монумент, исполненный бароном Клодтом, стоит в Новочеркасске среди обширной площади и представляет «вихря-атамана» в развевающейся бурке, с гетманской булавой в одной и с обнаженной саблей в другой руке, как бы устремляющегося с восставшим населением Дона в битвы на врагов России. Вся фигура, отлитая из бронзы, дышит энергией и силой.
«Долго и в раздумье стоишь перед этим изображением, – говорит один путешественник, – а в голове мелькают события славного 1812 года, и в памяти невольно воскресают строфы Жуковского из его «Певца во стане русских воинов»:
Хвала! Наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан —
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу – ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту – мост исчез;
Лишь к селам – пышут села».
VI. ГЕРОЙСКАЯ ОБОРОНА НАУРСКОЙ СТАНИЦЫ В 1774 ГОДУ
Оборона Наурской станицы моздокскими казаками 10 июня 1774 года представляет собой один из тех подвигов, которые, не имея большого политического и военного значения, вместе с тем невольно останавливают на себе внимание и современников и потомства, поражая ум и воображение. И в летописях царствования великой императрицы русской, столь славного богатырскими делами, и в летописях Кавказской войны этот эпизод должен занять место между славными подвигами, прославившими русское имя.
Была первая турецкая война, и Наурскую станицу обложило восьмитысячное скопище татар, кабардинцев и турок под предводительством калги из рода крымских султанов. Строевые казаки еще не возвращались из похода, и дома оставались только старики, женщины, дети и легионная команда. У неприятеля был явный расчет захватить врасплох беззащитных жителей станицы, которая едва только устраивалась, хотя, правда, и была обнесена валом и снабжена орудиями. Неприятель не знал, однако же, с кем будет иметь дело, и встретил небывалое войско с небывалым оружием. Разряженные наурские казачки в красных сарафанах вышли на защиту родного города и отражали неприятельские приступы наряду с мужьями и братьями. На женщин, между прочим, была возложена обязанность поддерживать костры, разогревать смолу и лить со стен кипяток на головы штурмующих. Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся к обеду, шли у казаков на дело защиты.
Оборона Наура была первым случаем, когда от кавказской женщины понадобилась серьезная и опасная боевая служба. Впоследствии она уже не расставалась с ней и сроднилась как с чем-то неизбежным среди суровой обстановки порубежного быта. Моздокские казачки не пугались ни свиста вражеских пуль, ни стрел, ни дикого рева и гика нападающих неприятелей. Спокойно, рядом со старыми волжскими бойцами встречали они яростные атаки татар, защищались серпами, косили косами смельчаков, появлявшихся на земляном валу станицы. Чугунные пушки перевозились на людях с места на место, смотря по тому, откуда усиливался приступ.
Несколько отбитых штурмов дорого стоили татарам. Полагают, что их потеря простиралась до восьмисот человек и что большая часть ее пала на кабардинцев. В числе убитых кабардинцев был и один из известных владельцев, князь Кагока Татарханов, и тело его осталось на поле сражения. Уже одно это обстоятельство показывает, как сильно было смятение татар, считающих священным долгом выносить из боя тела убитых товарищей, а тем более вождей и предводителей.
Целый день длилась кровавая борьба за обладание Науром, и целый день, истомленные боем, наурцы ожидали выручки, но выручка не появлялась. Станица Червленная лежала всего в сорока верстах, но сообщение с ней было прервано.
Говорят, что в Червленной был слышен гул пушечных выстрелов, но что командир пехотного полка, расположенного в станице, почему-то думал, что у наурцев идет совсем не кровавая драма, а водевиль с потешными огнями, до которых, нужно сказать мимоходом, был великий любитель начальник моздокских казаков старый полковник Савельев.
Так прошел день 10 июня. 11-го с рассветом вновь загремели казацкие пушки, но, к общему удивлению, неприятель быстро стал отходить от станичных валов, и скоро беспорядочные толпы его скрылись из глаз изумленных наурцев. Никто не знал и не догадывался о настоящей причине столь поспешного отступления вражеского табора, и уже впоследствии только стали говорить, что снятием осады Наур обязан был казаку Перепорху, наведшему орудие прямо на высокий курган, где стояла ставка калги, и счастливым выстрелом убившему любимого племянника предводителя. В этой случайности калга увидел для себя дурное предзнаменование и больше не хотел оставаться на тех полях, которые обагрены были неповинной кровью юноши…
Спустя много лет после этого события, в 1838 году, казаки разрывали однажды станичный курган, на котором, по рассказам их дедов, стояла ставка крымского султана, и действительно нашли в земле человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Кто знает, быть может, это и были останки того человека, случайная смерть которого решила участь наурской осады.
Хотя рассказ о казаке Перепорхе и его удачном выстреле и довольно популярен среди жителей Наурской станицы, но большинство казаков и доныне приписывает снятие осады и бегство неприятеля только особому Божьему покровительству. Предание говорит, что на заре 11 июня, в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, два всадника на белых конях и в белой одежде проехали вдоль вражеского стана и навели на татар панический ужас. В ознаменование этого события в наурской церкви устроен даже придел во имя апостолов Варфоломея и Варнавы, и день 11 июня празднуется в Моздокском полку до настоящего времени.
«Это бабий праздник», – говорят о нем казаки, вспоминая славное участие, которое приняло в бою женское население станицы. Многие из представительниц славного дела дожили до позднейшего времени, и посетители Наура еще не очень давно встречали старых героинь, украшенных медалями за его оборону.
Видная роль, выпавшая на долю женщины-казачки при защите Наура, была особенной причиной, почему кабардинцы долго не могли забыть позора своего поражения. Даже мирные из них старались не встречаться с моздокским казаком, боясь насмешек насчет того, «как Кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими бабами». Когда же приходилось встречать кого-нибудь из них с обожженным лицом, то казак и казачка не пропускали, бывало, случая позубоскалить над злополучным джигитом.
– А что, дос (приятель), не щи ли в Науре хлебал? – спросит, бывало, линеец и провожает добродушным смехом угрюмо молчащего кабардинца.
VII. НЕУДАЧНЫЙ ПОХОД ТОТЛЕБЕНА В ГРУЗИЮ
18 ноября 1768 года была объявлена турецкая война. Екатерининские армии под начальством князей Голицына и Долгорукова двинулись к Днестру и к Перекопу, и сверх того сформированы были еще два отдельных самостоятельных отряда, назначавшиеся к военным действиям, – один на Кубани, у подножия Кавказских гор, а другой – по ту сторону гор, в Закавказье, в древней Колхиде и Иверии.
Отделенные от нас высокой кавказской стеной, народы картвельского племени составляли в то время четыре государства: Грузию, Имеретию, Менгрелию и Гурию. Грузия была сильнейшей из них, но, раздираемая внутренними смутами и междоусобицами, она не могла иметь влияния на судьбы сопредельных с ней христианских государств, из которых каждое жило своей особенной жизнью.
Просвещенная светом истинной веры почти за шестьсот лет до крещения Владимиром Киева, древняя Иверия оставила много исторических памятников прежнего своего величия, но золотой век ее миновал уже в XII столетии, когда Древняя Русь еще только начинала свое политическое существование.
Иверия пережила много невзгод, история ее есть длинный мартиролог иверийского народа. Грузинская территория, лежащая на великом перекрестке переселения народов, через который прошли, сталкиваясь между собой, многочисленные племена Азии и Европы, была постоянной ареной борьбы, и потоки крови пришельцев и туземцев обагряли поля ее. Сильная некогда Грузия наконец стала изнемогать в борьбе с могучими соседями, злополучный край попеременно стали терзать то персияне, то турки, то лезгины. И между тем как иверийский народ, сильный духом и верой, напрягал последние силы в борьбе с магометанским миром, цари Имеретии уже спокойно выносили вековую зависимость от Порты, а остальные государства, Менгрелия и Гурия, совсем подпали под ее влияние и даже отурчились и обасурманились.
Другие электронные книги автора Василий Александрович Потто
Урдабадская битва




 3.67
3.67
Амалат-бек




 4.67
4.67