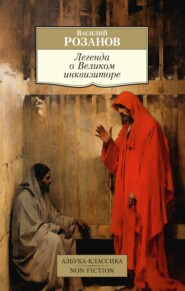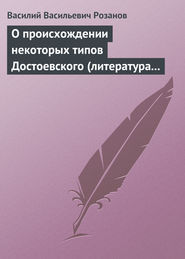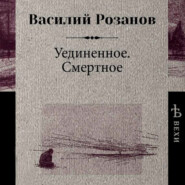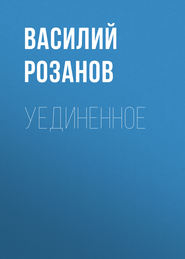По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Точно откатился куда-то в сторону и закатился в канавку. И из нее смотрю – только с любопытством, но не с «хочу».
(ночью в постели).
* * *
То, чему я никогда бы не поверил и чему поверить невозможно, – есть в действительности: что все наши ошибки, грехи, злые мысли, злые отношения, с самого притом детства, в юности и проч., имеют себе соответствием пожилом возрасте и особенно в старости. Что жизнь, таким образом (наша биография), есть организм, а вовсе не «отдельные поступки».
Жизнь (биография) органична: кто бы мог этому поверить?! Мы всегда считаем, что она «цепь отдельных поступков», которую я «поверну куда хочу» (т. е. что такова жизнь).
Как я чувствовал родных? Никак. Отца не видел и поэтому совершенно и никак его не чувствую и никогда о нем не думаю («вспоминать», естественно, не могу о том, чего нет «в памяти»). Но и маму я, только «когда уже все кончилось» (t), почувствовал каким-то больным чувством, при жизни же ее не почувствовал и не любил; и мы, дети, до того были нелепы и ничего не понимали, что раз хотели (обсуждали это, сидя «на бревнах», – был «сруб» по-соседству) жаловаться на нее в полицию. Только когда все кончилось и я стал приходить в возраст, а главное – когда сам почувствовал первые боли (биография), я «вызвал тень ее из гроба» и страшно с ней связался. Темненькая, маленькая, «из дворянского рода Шишкиных» (очень гордилась) – всегда раздраженная, всегда печальная, какая-то измученная, ужасно измученная (я потом только догадался), в сущности, ужасно много работавшая, и последние года два больная. Правда, она с нами ни о чем не беседовала и не играла: но до этого ли ей было, во-первых; а во-вторых, она физически видела нашу от нее отчужденность и почти вражду; и, естественно, «бросила разговаривать» с «такими дураками». Только потом (из писем к Коле) я увидел или, лучше сказать, узнал, что она постоянно о нас думала и заботилась, а только «не разговаривала с дураками», потому что они «ничего не понимали». И мы, конечно, «ничего не понимали» со своей «полицией». И потом эта память ее молитвы ночью (без огня), и толстый «акафистник» с буро-желтыми пятнами (деревянное пролившееся масло), и как я ей читал (лет 7-ми, 8-ми, даже 5-ти?) «Училище благочестия» и там помню историю «О Гурие, Самоне(?) и Авиве». Мне эти истории очень нравились, коротенькие и понятные. И мамаша их любила.
Но на наш «не мирный дом» как бы хорошо повеяла зажженная лампадка. Но ее не было (денег не было ни на масло, ни на самую лампадку).
И весь дом был какой-то – у! – у! – у! – темный и злой. И мы все были несчастны. Но что «были несчастны» – я понял потом. Тогда же хотелось только «на всех сердиться».
(за нумизматикой).
* * *
До встречи с домом «бабушки» (откуда взял вторую жену) я вообще не видел в жизни гармонии, благообразия, доброты. Мир для меня был не Космос (%о5ц8<в– украшаю), а Безобразие, и, в отчаянные минуты, просто Дыра. Мне совершенно было непонятно, зачем все живут, и зачем я живу, что такое и зачем вообще жизнь? – такая проклятая, тупая и совершенно никому не нужная. Думать, думать и думать (философствовать, «О понимании») – этого всегда хотелось, это «летело:»: но что творится, в области действия или вообще «жизни», – хаос, мучение и проклятие.
И вдруг я встретил этот домик в 4 окошечка, подле Введения (церковь, Елец), где было все благородно.
В первый раз в жизни я увидал благородных людей и благородную жизнь.
И жизнь очень бедна, и люди бедны. Но никакой тоски, черни, даже жалоб не было. Было что-то «благословенное» в самом доме, в деревянных его стенах, в окошечке в сенях на «За-Сосну» (часть города). В глупой толстой Марье (прислуге), которую терпели, хотя она глупа, – и никто не обижал.
И никто вообще никого не обижал в этом благословенном доме. Тут не было совсем «сердитости», без которой я не помню ни одного русского дома. Тут тоже не было никакого завидования, «почему другой живет лучше», «почему он счастливее нас», – как это опять-таки решительно во всяком русском доме.
Я был удивлен. Моя «новая философия», уже не «понимания», а «жизни» – началась с великого удивления…
«Как могут быть синтетические суждения я-priori»: с вопроса этого началась философия Канта. Моя же новая «философия» жизни началась не с вопроса, а скорее с зрения и удивления: как может быть жизнь благородна и в зависимости от одного этого — счастлива; как люди могут во всем нуждаться, «в судаке к обеду», «в дровах к 1-му числу»: и жить благородно и счастливо, жить с тяжелыми, грустными, без конца грустными воспоминаниями: и быть счастливыми по тому одному, что они ни против кого не грешат (не завидуют) и ни против кого не виновны.
Ни внучка 7-ми лет, «Санюша», ни молодая женщина 27 лет, ее мать, ни мать ее – бабушка, лет 55.
И я все полюбил. Устал писать. Но с этого и началась моя новая жизнь.
(за нумизматикой).
* * *
Может быть, даже и нет идеи бессмертия души, но есть чувство бессмертия души, и проистекает оно из любви. Я оттого отвергал или «не интересовался» бессмертием души, что мало любил мамочку; жалел ее – но это другое, чем любовь, или не совсем то… Если бы я ее свежее, горячее любил, если бы мне больнее и страшнее было, что «ее нет»: то вот и «бессмертие души», «вечная жизнь», «загробное существование». Но, может быть, это «гипотеза любви»? Какая же «гипотеза», когда я «ем хлеб» и умру без «ем». Это – просто «еда», как обращение Земли около Солнца и проч. космическое. Так из великой космологической тоски (ибо тоска-то эта космологическая) при разлуке в смерти – получается, что «за гробом встретимся». Это как «вода течет», «огонь жжет» и «хлеб сытит»: – так «душа не умирает» в смерти тела, а лишь раздирается с телом и отделяется от тела. Почему это должно быть так – нельзя доказать, а видим просто все, и знаем все, что – есть. К числу этих вечных «есть», на которых мир держится, принадлежит и вечность «я», моего «горя», моей «радости». Идея эта, – или, вернее, связывающее нас всех живущих чувство, до того благородна, возвышенна, нежна, что что же такое перед нею «Госуд. дума», или «Ленская забастовка», или лошадиное «предлагаю всем встать» (при известии о смерти)… А между тем эту идею и это чувство отвергает наш мир. Не хочет и не знает ее, смеется над нею. Не значит ли это, что «наш мир» (и его понятия) есть что-то до такой степени преходящее и зыбкое, до такой степени никому не нужное – не нужное следующему же за нами поколению, – что даже страшно подумать. Турнюры.
– Носили женщины турнюры.
– А? Что?
– Турнюры, говорю.
– Ну так что же? Больше не видим.
– В том и дело, что «не видим». Так вот «не увидим» завтра всего «нашего времени», с парламентами, Дарвином и забастовками. И может по такой малости, что вот ему (наш. времени) не нужно было «бессмертия души».
Нежная-то идея и переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Поломаются машины. А что человеку «плачется» при одной угрозе «вечною разлукою» – это никогда не порвется, не истощится.
Верьте, люди, в нежные идеи. Бросьте железо: оно – паутина. Истинное железо – слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, – одно благородное.
Им и живите.
(21 апреля).
* * *
Что-то такое противное есть в моем слоге. С противным — все не вечно. Значит, я временен?
Противное это в каком-то самодовольстве. Даже иногда в самоупоении. Точно у меня масляное брюхо и я сам его намаслил. Правда, от этого я точно лечу, – и это, конечно, качество. Но в полете нет праведного тихого шествования. Которое лучше.
Мой идеал – тихое, благородное, чистое. Как я далек от него.
Когда так сознаешь себя, думаешь: как же трудна литература^. Поистине тот только «писатель», кто чист душою и прожил чистую жизнь. Сделаться писателем – совершенно невозможно. Нужно родиться и «удалась бы биография».
Чистый – вот Пушкин. Как устарела (через 17 лет) моя статья из «Русск. Вестн.» (вырезанная, – цензура), которою все восхищались. Она смешна, уродлива, напыжена. Я бы не издавал ее, если бы предварительно перечитал: а «уже сдал в набор», – то пошла. В «Капитанской дочке» ни одна строка не устарела: а ей 80 лет!!
В чем же тут тайна? В необыкновенной полноте пушкинского духа. У меня дух вовсе не полный.
Какой я весь судорожный и – жалкий. Какой-то весь растрепанный:
Последняя туча разорванной бури…
И сам себя растрепал, и «укатали горки».
Когда это сознаешь (т. е. ничтожество), как чувствуешь себя несчастным.
Вообще полезно заглядывать в прежние сочинения (я – никогда). Вдруг узнаешь меру себе. «Сейчас – все упоительно», и, может быть, это уже fatum. Но прошли годы, обернулся, и скажешь: «Ложь! Ложь!»
Грустно и страшно.
(за корректурою книги «О монархии», вырезанной в 1896 г. из «Русск. Вестн.»).
Вот когда почувствуешь свое бессилие в литературе, вдруг начинаешь уважать литературу: «Как это трудно!
Я не могу!» Где «я не могу» – удивление и затем восхищение (что другой мог).
У меня это редкий гость, редчайший.
* * *
Есть ведь и маленькие писатели, но совершенно чистые.
(ночью в постели).
* * *
То, чему я никогда бы не поверил и чему поверить невозможно, – есть в действительности: что все наши ошибки, грехи, злые мысли, злые отношения, с самого притом детства, в юности и проч., имеют себе соответствием пожилом возрасте и особенно в старости. Что жизнь, таким образом (наша биография), есть организм, а вовсе не «отдельные поступки».
Жизнь (биография) органична: кто бы мог этому поверить?! Мы всегда считаем, что она «цепь отдельных поступков», которую я «поверну куда хочу» (т. е. что такова жизнь).
Как я чувствовал родных? Никак. Отца не видел и поэтому совершенно и никак его не чувствую и никогда о нем не думаю («вспоминать», естественно, не могу о том, чего нет «в памяти»). Но и маму я, только «когда уже все кончилось» (t), почувствовал каким-то больным чувством, при жизни же ее не почувствовал и не любил; и мы, дети, до того были нелепы и ничего не понимали, что раз хотели (обсуждали это, сидя «на бревнах», – был «сруб» по-соседству) жаловаться на нее в полицию. Только когда все кончилось и я стал приходить в возраст, а главное – когда сам почувствовал первые боли (биография), я «вызвал тень ее из гроба» и страшно с ней связался. Темненькая, маленькая, «из дворянского рода Шишкиных» (очень гордилась) – всегда раздраженная, всегда печальная, какая-то измученная, ужасно измученная (я потом только догадался), в сущности, ужасно много работавшая, и последние года два больная. Правда, она с нами ни о чем не беседовала и не играла: но до этого ли ей было, во-первых; а во-вторых, она физически видела нашу от нее отчужденность и почти вражду; и, естественно, «бросила разговаривать» с «такими дураками». Только потом (из писем к Коле) я увидел или, лучше сказать, узнал, что она постоянно о нас думала и заботилась, а только «не разговаривала с дураками», потому что они «ничего не понимали». И мы, конечно, «ничего не понимали» со своей «полицией». И потом эта память ее молитвы ночью (без огня), и толстый «акафистник» с буро-желтыми пятнами (деревянное пролившееся масло), и как я ей читал (лет 7-ми, 8-ми, даже 5-ти?) «Училище благочестия» и там помню историю «О Гурие, Самоне(?) и Авиве». Мне эти истории очень нравились, коротенькие и понятные. И мамаша их любила.
Но на наш «не мирный дом» как бы хорошо повеяла зажженная лампадка. Но ее не было (денег не было ни на масло, ни на самую лампадку).
И весь дом был какой-то – у! – у! – у! – темный и злой. И мы все были несчастны. Но что «были несчастны» – я понял потом. Тогда же хотелось только «на всех сердиться».
(за нумизматикой).
* * *
До встречи с домом «бабушки» (откуда взял вторую жену) я вообще не видел в жизни гармонии, благообразия, доброты. Мир для меня был не Космос (%о5ц8<в– украшаю), а Безобразие, и, в отчаянные минуты, просто Дыра. Мне совершенно было непонятно, зачем все живут, и зачем я живу, что такое и зачем вообще жизнь? – такая проклятая, тупая и совершенно никому не нужная. Думать, думать и думать (философствовать, «О понимании») – этого всегда хотелось, это «летело:»: но что творится, в области действия или вообще «жизни», – хаос, мучение и проклятие.
И вдруг я встретил этот домик в 4 окошечка, подле Введения (церковь, Елец), где было все благородно.
В первый раз в жизни я увидал благородных людей и благородную жизнь.
И жизнь очень бедна, и люди бедны. Но никакой тоски, черни, даже жалоб не было. Было что-то «благословенное» в самом доме, в деревянных его стенах, в окошечке в сенях на «За-Сосну» (часть города). В глупой толстой Марье (прислуге), которую терпели, хотя она глупа, – и никто не обижал.
И никто вообще никого не обижал в этом благословенном доме. Тут не было совсем «сердитости», без которой я не помню ни одного русского дома. Тут тоже не было никакого завидования, «почему другой живет лучше», «почему он счастливее нас», – как это опять-таки решительно во всяком русском доме.
Я был удивлен. Моя «новая философия», уже не «понимания», а «жизни» – началась с великого удивления…
«Как могут быть синтетические суждения я-priori»: с вопроса этого началась философия Канта. Моя же новая «философия» жизни началась не с вопроса, а скорее с зрения и удивления: как может быть жизнь благородна и в зависимости от одного этого — счастлива; как люди могут во всем нуждаться, «в судаке к обеду», «в дровах к 1-му числу»: и жить благородно и счастливо, жить с тяжелыми, грустными, без конца грустными воспоминаниями: и быть счастливыми по тому одному, что они ни против кого не грешат (не завидуют) и ни против кого не виновны.
Ни внучка 7-ми лет, «Санюша», ни молодая женщина 27 лет, ее мать, ни мать ее – бабушка, лет 55.
И я все полюбил. Устал писать. Но с этого и началась моя новая жизнь.
(за нумизматикой).
* * *
Может быть, даже и нет идеи бессмертия души, но есть чувство бессмертия души, и проистекает оно из любви. Я оттого отвергал или «не интересовался» бессмертием души, что мало любил мамочку; жалел ее – но это другое, чем любовь, или не совсем то… Если бы я ее свежее, горячее любил, если бы мне больнее и страшнее было, что «ее нет»: то вот и «бессмертие души», «вечная жизнь», «загробное существование». Но, может быть, это «гипотеза любви»? Какая же «гипотеза», когда я «ем хлеб» и умру без «ем». Это – просто «еда», как обращение Земли около Солнца и проч. космическое. Так из великой космологической тоски (ибо тоска-то эта космологическая) при разлуке в смерти – получается, что «за гробом встретимся». Это как «вода течет», «огонь жжет» и «хлеб сытит»: – так «душа не умирает» в смерти тела, а лишь раздирается с телом и отделяется от тела. Почему это должно быть так – нельзя доказать, а видим просто все, и знаем все, что – есть. К числу этих вечных «есть», на которых мир держится, принадлежит и вечность «я», моего «горя», моей «радости». Идея эта, – или, вернее, связывающее нас всех живущих чувство, до того благородна, возвышенна, нежна, что что же такое перед нею «Госуд. дума», или «Ленская забастовка», или лошадиное «предлагаю всем встать» (при известии о смерти)… А между тем эту идею и это чувство отвергает наш мир. Не хочет и не знает ее, смеется над нею. Не значит ли это, что «наш мир» (и его понятия) есть что-то до такой степени преходящее и зыбкое, до такой степени никому не нужное – не нужное следующему же за нами поколению, – что даже страшно подумать. Турнюры.
– Носили женщины турнюры.
– А? Что?
– Турнюры, говорю.
– Ну так что же? Больше не видим.
– В том и дело, что «не видим». Так вот «не увидим» завтра всего «нашего времени», с парламентами, Дарвином и забастовками. И может по такой малости, что вот ему (наш. времени) не нужно было «бессмертия души».
Нежная-то идея и переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Поломаются машины. А что человеку «плачется» при одной угрозе «вечною разлукою» – это никогда не порвется, не истощится.
Верьте, люди, в нежные идеи. Бросьте железо: оно – паутина. Истинное железо – слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, – одно благородное.
Им и живите.
(21 апреля).
* * *
Что-то такое противное есть в моем слоге. С противным — все не вечно. Значит, я временен?
Противное это в каком-то самодовольстве. Даже иногда в самоупоении. Точно у меня масляное брюхо и я сам его намаслил. Правда, от этого я точно лечу, – и это, конечно, качество. Но в полете нет праведного тихого шествования. Которое лучше.
Мой идеал – тихое, благородное, чистое. Как я далек от него.
Когда так сознаешь себя, думаешь: как же трудна литература^. Поистине тот только «писатель», кто чист душою и прожил чистую жизнь. Сделаться писателем – совершенно невозможно. Нужно родиться и «удалась бы биография».
Чистый – вот Пушкин. Как устарела (через 17 лет) моя статья из «Русск. Вестн.» (вырезанная, – цензура), которою все восхищались. Она смешна, уродлива, напыжена. Я бы не издавал ее, если бы предварительно перечитал: а «уже сдал в набор», – то пошла. В «Капитанской дочке» ни одна строка не устарела: а ей 80 лет!!
В чем же тут тайна? В необыкновенной полноте пушкинского духа. У меня дух вовсе не полный.
Какой я весь судорожный и – жалкий. Какой-то весь растрепанный:
Последняя туча разорванной бури…
И сам себя растрепал, и «укатали горки».
Когда это сознаешь (т. е. ничтожество), как чувствуешь себя несчастным.
Вообще полезно заглядывать в прежние сочинения (я – никогда). Вдруг узнаешь меру себе. «Сейчас – все упоительно», и, может быть, это уже fatum. Но прошли годы, обернулся, и скажешь: «Ложь! Ложь!»
Грустно и страшно.
(за корректурою книги «О монархии», вырезанной в 1896 г. из «Русск. Вестн.»).
Вот когда почувствуешь свое бессилие в литературе, вдруг начинаешь уважать литературу: «Как это трудно!
Я не могу!» Где «я не могу» – удивление и затем восхищение (что другой мог).
У меня это редкий гость, редчайший.
* * *
Есть ведь и маленькие писатели, но совершенно чистые.