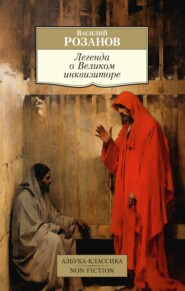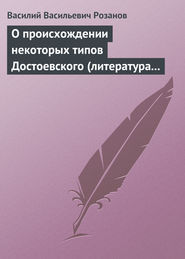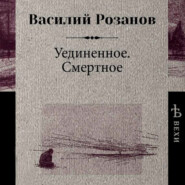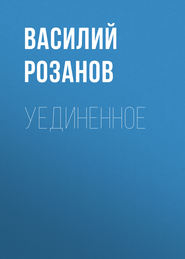По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смертное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Садитесь. Довольно.
И поставили единицу.
Костя мне с отчаянием говорил (я ждал у дверей):
– Подлец он этакий: скажи он мне квум – и я бы ответил. О квум три страницы у Кремера (грамматика). Он, черт этакий, выговорил кум\ (есть право и так выговорить, но редко). Я подумал: «Кум — предлог с», что же об нем отвечать, кроме того, что «с творительным», но это до того «само собою разумеется», что я счел позорным отвечать для пятого класса.
И исключили. В тот час у него умер и отец. Он поступил на службу (чтобы поддерживать мать с детьми), – сперва в полицейское управление, – и писал мне отчаянные письма («Вася, думали ли мы, что придется служить в проклятой полиции»), потом – на почту, и «теперь работаю в сортировочной» (сортировка писем по городам).
В то же время где-нибудь аккуратный и хорошенький мальчик «Сережа Муромцев» учился отлично, директор его гладил по голове, кончил с медалью, в университете – тоже с медалью, наконец – профессор «с небольшой оппозицией»… И
До хорошего местечка
Доползешь ужом.
Вышел в председатели 1-й Госуд. думы. И произнес знаменитое mot[1 - Слово (фр.).]: «Государственная дума не может ошибаться». Неужели мой Костя мог бы так провалиться на государственном экзамене??!!
Да, он кум не знал, но он был ловок, силен, умен, тактичен «во всяких делах мира». А как греб на лодке! а как – потихоньку – пил пиво и играл на билиарде! И читал, читал запоем.
Где этот милый товарищ?!
* * *
Александр Петрович, побрякивая цепочкой часов, остановил меня в коридоре:
– Розанов, у вас ни одной этимологической ошибки…
Я стоял, скромно опустив голову, как Мадонна на «Благовещении» у Боттичелли.
– Но синтаксис… невозможный. Отвратительно!!! Отчего это??!!
Молчу. Улыбаюсь извинительно!
А очень просто. Как нам продиктуют работу, то бедные мои товарищи так и спешат, и спешат. «Плохой же Розанов» хитрым образом положит руки в карманы. Посмотрит на окошечко. Посмотрит на солнышко. И, лишь совершенно успокоясь и ни малейше не волнуясь, «приступает».
Я очень хорошо знал, что «ни за какой синтаксис не поставят двойки» (не имеют права), а двойки ставят только за этимологию. И вопрос был в том, чтобы не сделать этимологической ошибки. Так как optativus’oв[2 - Желательное наклонение (лат.).] и conjunctivus’oв[3 - Сослагательное наклонение (лат.).] я не знал, – или помнил что-то вроде «каши» (спуталось в голове), – то я осторожно переделывал (переиначивал чуть-чуть) строение фразы, и, понаставив (мысленно, переделывая) союзов и прочее, – везде обходился с одними «изъявительными». Персы и греки у меня черт знает как говорили: но грызущий перо в досаде учитель не имел права подчеркнуть двумя чертами («грубая этимологическая ошибка»).
Этот бедный Александр Петрович (Заболотский) – умер от круглой язвы желудка, – в Вязьме. Он был очень добр и снисходителен к ученикам. Ученики же его ужасно измучивали. И тут – болезнь. Уже лет за 20 до смерти он все хворал желудком и ездил в Ессентуки лечиться – «катар». – Но это был не катар, а начало круглой язвы желудка. Вся жизнь его была тусклая и несчастная.
(испытание зрелости по греческому языку).
* * *
Мамочка никогда не умела отличить клубов дыма от пара и, войдя в горячее отделение бани, где я поддал себе на полок, вскрикивала со страхом: «Какой угар!..» Также она не умела отпереть никакого замка, если отпирание не заключалось в простом поворачивании ключа вправо. Когда я ей объяснил, что нужно же писать «мн?» и вообще в дательном падеже – ?, то она, не пытаясь вникнуть и разобраться, вообще везде предпочла писать ?. Когда я ей объяснил, что лучше везде писать е, то она уже не стала переучиваться, и удержала старую привычку (т. е. везде ?).
Вообще она не могла вникнуть ни в какие хитрости и ни в какие глупости (мелочи): слушая их ухом, она не прилежала к ним умом.
Но она высмотрела детям все лучшие школы в Петербурге Пошла к Штембергу (для Васи). Директор очень понравился. Но, выйдя на двор, во время роспуска учеников, она стала за ними наблюдать: и, придя, изложила мне, что все хорошо, и директор, и порядок, но как-то вульгарен будет состав товарищей. Пошла в школу Тенишевой, – и сказала твердое: «Туда». Девочкам выбрала гимназию Стоюниной, а нервной, падающей на бок, Тане, как и неукротимой Варваре, выбрала школу Левицкой. И действительно, для оттенков детей подошли именно эти оттенки школ; она их не угадала, а твердо выверила.
Вообще твердость суждения и поступка – в ней постоянны. Никакой каши и мямленья, нерешительности и колебания. И никогда «сразу», «с азарту», «вдруг». Самое колебание продолжалось 2–3 дня, и она ужасно в них работала умом и всей натурой.
А замка не умела отпереть: ибо это и действительно ведь глупость. Ибо замки ведь вообще должны запирать, и – только, т. е. все «направо», а что сверх сего – «от лукавого». И она «от лукавого» не понимала.
В Ельце кой-что мне грозило, и я между речей сказал ей, что куплю револьвер. Вдруг к вечеру с пылающим лицом она входит в мою квартиру, в доме Рогачевой. И, едва поцеловав, заговорила:
– Я сказала Тихону (брат, юрист)… Он сказал, что это Сибирем пахнет.
– Сибирью…
– Сибирем, – она поправила, – равнодушная к форме и выговаривая, как восприняло ухо. Она была занята мыслью о ссылке, а не грамматикой.
Крепко схватив, я ее осыпал поцелуями. И до сих пор эта тревога за любимого у меня не разъединима с «Сибирем пахнет».
Она вся пылала, торопилась и запрещала (т. е. покупать револьвер). Да я и стрелять не умел.
Она вышла из 3-го класса гимназии. Именно она все пачкала (замуслякивала) чернилами парту заметив, что Иван Павлович (Леонов), говоря ученицам объяснения, опирался (он был огромного роста и толстый) пальцами на стол. Тот все пачкался. Пожаловался. И поставили в поведении «4». Мамаша (Ал. Адр. Руднева), вообразив, что «4 в поведении девушке» — марает ее и намекает на «VII заповедь», оскорбилась и сказала:
«Не ходи больше. Я возьму тебя из гимназии. Они не смеют порочить девушку».
Это, кстати, и совпало с началом влюбления в Михаила Павловича «Мамаша, бывало, посылает за бумагой (нитки) я воспользуюсь и мигом пролечу в Черную Слободу, – чтобы хоть взглянуть на дом, где он жил».
* * *
Удивительна все-таки непроницательность нашей критики… Я добр или по крайней мере совершенно не злобен. Даже лица, причинившие мне неисчерпаемое страдание и унижение, Афонька и Тертий, – не возбуждают во мне собственно злобы, а только смешное и «не желаю смотреть». Но никогда не «играла мысль» о их страдании. Струве – ну да, я хотел бы поколотить его, но добродушно, в спину. Господи, если бы мне «ударить» его, я расплакался бы и сказал: «Ударь меня вдвое». Таким образом, никогда месть мне не приходила на ум. Она приходила разве в отношении учреждений, государственности, церкви. Но это – не лица, не душа.
Таким образом, самая суть моя есть доброта – самая обыкновенная, без «экивоков». Ничье страданье мне не рисовалось как мое наслаждение, – и в этом все дело, в этом суть «демонизма». Которого я совершенно лишен, – до непредставления его и у кого-нибудь. Мне кажется, что это все выдумано, преимущественно дворянами, как Байрон, – и от молодости. «Были сказки о домовых, а потом выдумали занимательнее – демон».
Печальный и пр. и пр.
. . .
Между тем все статьи обо мне начинаются определениями: «демонизмв Р.». И ищут, ищут. Я читаю: просто – ничего не понимаю. «Это – не я». Впечатление до такой степени чужое, что даже странно, что пестрит моя фамилия. Пишут о «корове», и что она «прыгает», даже потихоньку «танцует», а главное – у нее «клыки» и «по ночам глаза светят зеленым блеском». Это ужасно странно и нелепо, и такое нелепое я выношу изо всего, что обо мне писали Мережковский, Волжский Закржевский, Куклярский (только у Чуковского строк 8 индивидуально-верных, – о давлении крови, о температуре, о множестве сердец). С Ницше… никакою сходства! С Леонтьевым – никакого же личного (сход.). Я только люблю его. Но сходство и «люблю» – разное.
Я самый обыкновенный человек; позвольте полный титул: «коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения».
Теперь, эти «сочинения»… Да, мне мною пришло на ум, чего раньше никому не приходило, в том числе и Ницше, и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей (точек зрения, узора мысленной ткани) я считаю себя первым. Мне иногда кажется, что я понял в сю историю так, как бы «держу ее в руке», как бы историю я сам сотворил, – с таким же чувством уроднения и полного постижения. Но сюда я выведен был своим «положением» («друг» и история с ним), да и пришли лишь именно мысли, а это – не я сам. Я – добрый и малый (parvus): а если «мысли» действительно великие, то разве мальчик не «открывает солнца», и «звезд», всю «поднебесную», и что «яблоко падает» (открытие Ньютона), и даже труднейшее и глубочайшее – первую молитву. Вот я такой «мальчик с неутертым носом», – «все открывший». Это мое положение, но не я. От этого я считаю себя, что «в Боге»… У меня есть серьезная уверенность: – Бог для того-то и подвел меня (точно взяв за руку) встретиться с «другом», чтобы я безмерно наивным и добрым взглядом увидел «море зла и гибели», вообще сокрытое «от премудрых земли», о чем не догадывались никогда деревянные попы, да и «святые» их категории, – не догадывался никто, считая все за «эмпирию», «случай» и «бывающее», тогда как это суть, душа и от самого источника. Слушайте, человеки, что для нас самое убедительное? Нечто, что мы сами увидели, узнали, ущупали, унюхали. Ну, словом: знаю — и баста. Так для жулика – самое ясное, что он может отпереть всякий замок отверткою; для финансиста – что не ошибется в бирже; для Маркса – что рабочим надо дать могущество; и прочее. Всякий человек живет немногими знаниями, которые суть плод его жизни, именно его; опыта, страдания, нюха и зрения. Для меня (ведь внутренность же свою я знаю) было ясно в Е., 1886–1891 гг., что я – погибал, что я – не нужен, что я, наконец, – озлоблен (вот тогда «демонизм» был), что я весь гибну, может быть, в разврате, в картах, вернее же в какой-то жалкой уездной пыли, написав лишь свое «О понимании», над которым все смеялись…
Тогда я жил оставленный, брошенный – без моей вины. Обошел человек и сделал вред.
Вдруг я встречаю, при умирании третьего (товарищ), слезы… Я удивился… «Что такое слезы?» «Я никогда не плачу». «Не понимаю, не чувствую».
Я весь задеревенел в своей злобе и оставленности и мелких «картишках».
Плач, – у гроба третьего — был для меня что яблоко для Ньютона. «Так вот, можно жалеть, плакать»… Удивленный, пораженный, я стал вникать, вслушиваться, смотреть.
Та же судьба, та же оставленность. Но реагирующая на зло плачем в себе, без осуждения, без недоумения, без всякой злобы, без догадки, что есть в мире злоба, вот «демонизм», вот «бесовщина».
Я подал руку, – долго не принимаемую, по неуверенности. Ведь я ходил в резиновых глубоких галошах в июне месяце, и вообще был «чучело». Да и «невозможно» было (администрация и проч.). Но колебания быстро прошли: случилось (от нервности) несчастие (оказавшееся через несколько месяцев мнимым), – которое, так сказать, «резиновые калоши» простирало до преисподней и делало меня «совершенно невозможным». Но «слезы по третьем» решили все: именно когда казалось все «разрушенным и погибшим», и до скончания веков, когда подойти ко мне значило погибнуть самому (особенная личная тайна), и я обо всем этом честно рассказал, – рука протянулась со словами «колебания кончились». Дальше, больше, годы, вдруг бороды лопатой говорят: