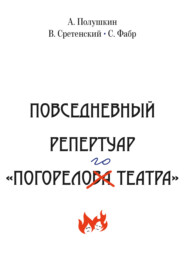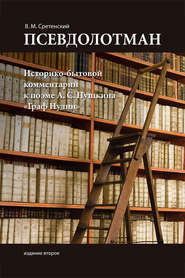По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Йестердэй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
5 часов пополудни. Шампанское или пунш в селе Черная грязь. В зимнее время – жженка. Последние обнаруженные друзья и родственники отправлены в Москву багажом.
И вот, знаменательный момент: 1 ноября 1851 года на правом берегу реки Ямки была открыта стация Николаевской железной дороги – Ямки. Одновременно в этих местах появились первые дачники. Вот тогда-то крестьяне Овражек и Козлищ получили, наконец, компенсацию за все безобразия поляков и французов. Дело дошло до того, что в 1907 году архитектор Шехтель, отец русского модерна, выстроил в Козмодемьянском загородный дом купцу Патрикееву. Ныне этот дом – единственная достопримечательность Ямок, если не считать таковой огромную каменную голову, с характерным прищуром наблюдающую за автомобильным движением на площади перед городской администрацией.
<Вставка. Кстати, первый владелец головы, распорядившись превратить дом купца в санаторий, с удовольствием приезжал туда подлечиться и отдохнуть. Чем в это время занимался прежний владелец дома, установить не удалось>
.
В революционном движении начала ХХ века ямцы-кузьминцы не отметились, резонно полагая, что революция и дачники – две вещи несовместные. Им хотелось побольше дачников, покупающих по утрам молоко и сметану, но революция рассудила иначе.
К 1930-м годам Ямки запустели в четвертый раз за обозримый период истории. Дачники давно уже работали таксистами в Париже и проститутками в Берлине. Те, кто когда-то поставлял им морковку яйца, и творог, ехали в теплушках в Сибирь или подались в рабочие. Вот тогда-то было принято мудрое решение поставить на станции Ямки бараки, завести по железной дороге побольше рабсилы и построить тут три завода: авиационный (Зенит), авиационный (Восток), ну и авиационный (Гранит).
Два станционных дома красного кирпича, две улицы: Кузьминская (от железнодорожной станции до Космодемьянской церкви и санатория) и Царская (от станции же к Ленинградскому тогда уже шоссе) с их 43 домами, а также 17 новеньких бараков были объявлены городом и райцентром Ямки.
В те же самые годы по руслу реки Ямки, согнанные со всех концов арестанты
<заключенные, зэки, враги народа, несчастные>
прорыли мотыгами и лопатами канал, начало которого было помечено каменным кумиром, а конец – речным портом. Так тогдашний властитель Москвы довершил дело, начатое Юрием Долгоруким,
<бронзовый?>
кумир которого, в свою очередь, был торжественно воздвигнут в самом центре Москвы…
[На этом записи Василия Сретенского обрываются. Очерк остался незаконченным]
Кассета 2. Цвет черный
Кх… Кха… Кхм… Нннрррр… Нет, потом.
[пауза]
Ну, так. Надо что-нибудь выпить. В смысле, чаю попить.
Поговорил я с дочкой Лехи Серба. С диктофоном какая-то незадача вышла: то ли не включился, то ли батарейка села, хотя нет, сейчас-то работает. А в кафе машинка не включилась, так что придется пересказывать весь разговор своими словами.
Я пришел, сел за столик, настроился на три стакана сока. Первый выпил залпом, второй и третий решил тянуть. Она пришла уже на втором. Ну, какая… Чуть ниже меня, стройная. Лет ей двадцать, может, двадцать два. Нет, выглядит совсем молодо, но порывистости в движениях уже нет. Не ребенок, знает свою силу и может ее рассчитать. Волосы темные, стрижка… ассиметричная. Глаза. Темно-коричневые но кажутся совсем… как это… «в соленой пелене два черных солнца». Как-то так.
Она вошла и я подумал: «Вот такая у меня была бы дочь. Если бы была. Если бы…» Ну, дальше додумывать не стал. Зачем.
Интересно, я совсем не помню, как она была одета. Что на ней было? Джинсы и футболка, платье, деловой костюм? Ведь что-то же должно было быть. Нет, точно, что-то было, такое… бежевое? коричневое? красное? Нет. Не могу вспомнить.
Она меня вычислила сразу, подошла, села, заказала черный чай без ничего. Разговор пошел сам собой, о чем не помню. Я вообще живу глазами и слов собеседников не запоминаю. Если очень нужно – есть диктофон. Вот что я подметил почти сразу: она своеобразно расставляет смысловые акценты. Если надо было что-то усилить во фразе, слега опускала уголки рта, а глаза уводила вниз и в сторону. Не знаю, как на такую гримаску реагируют другие, я в эти моменты забывал дышать. Даже неудобно пару раз получилось.
И еще. Она напомнила мне Карину, мою одноклассницу, жену Лехи Серба. Вообще-то, Арина на мать не похожа, а на Леху тем более. Ну, какими я их помню. Черты лица совсем другие. Нос, к примеру, у Карины был тонкий, чуть вздернутый. У Арины пошире и ни намека на курносость. Ямочек на щеках нет. Ну, все не то. Губы. Брови. И в то же время, образ той Карины проступал в жестах, мимике, улыбке… да во всем. Я видел перед собой двух женщин, ту далекую Карину и вот эту – ее дочь.
Но к делу. Когда я включился в смысл ее слов, то уловил, что она добыла мой номер мобильника в редакции и позвонила, потому что вроде как никто другой ее проблемы решить не может. А проблема такая, что ее и проблемой назвать неудобно. Это как прийти к кому-нибудь и сказать: понимаешь у меня проблема, я тут случайно узнал, что завтра умру. Короче, художник Алексей Сербов две недели как заперся в мастерской, а это не чулан какой-нибудь, а квартира-студия. Не пьет! Питается, судя по всему, акридами. Никого к себе не пускает, но с кем-то все время разговаривает. А все потому, что две недели назад пропала его жена. Карина. Ушла вечером из дома, не взяв ничего, и не вернулась.
Вот в этом месте я представил себе, что последствия моего удара портфелем сказались через 35 лет. Карина потеряла память и бродит сейчас по улицам мегаполиса (благо лето) в рванном джинсовом костюме и без макияжа.
Пока вытирали разлитый сок, я рассудил, что вряд ли Арина пришла сюда, держа в сумочке дамский револьвер или повестку в суд по иску о возмещении ущерба. Ну, в общем да. В смысле, нет. Оказывается, она несколько раз пыталась вывести отца из состояния льва, рыкающего в пустыне. Больницы и морги обзвонила. С друзьями семьи поговорила. В милицию Леха обращаться запретил, перед тем как скрыться в своей пещере и завалить ее камнями изнутри. Последовательность действий, возможно, была иная, но смысл, как мне кажется, передан точно.
Но вот пару дней назад Алексей Сербов лично отвалил все камни от входа, предстал перед дочерью в облике несвежем, но разумном. И дальше, по словам Арины, начался самый настоящий бред. Будучи в добром здравии и в полной памяти, отец протянул ей старую фотокарточку, заявив, что жена его ушла к любовнику, настоящему отцу Арины, и потому он, Алексей Сербов, знать ее не хочет.
Тут я должен был спросить. Я и спросил: «Кого – ее»? Оказалось – Арину. Сбрендивший Леха выставил дочь вон из студии, оставив ей старую фотокарточку и посоветовав найти настоящего отца. Но дело в том что…ааа клинвышибать!
[Далее – шесть слов неразборчиво. Составитель]
Заварил чайку! Кружка китайская, фарфоровая, Ленкин подарок на Новый год, в руках лопнула. Весь чай на джинсах и тапках, коленки обваренные, теперь, наверное, в темноте светиться будут. Хорошо хоть коленки, а если бы я чашку ко рту успел поднести… это куда бы он потек!
Нет, что ни говорите, в китайской экономике что-то не ладно. Темпы темпами, но уж хотя бы фарфор, национальное достояние, можно бы делать настоящий.
[пауза]
Йестердей.
Олл май траблс симд соу фар эвей
Нау ит лукс…
[пауза]
Чё-то гитара сегодня не строит.
[пауза]
Саденли
Айм нот халф зе мэн ай юзд то би-и
Зерез шэдоу хэвинг овер ми-и
О йестердэй
Кам саденли-и
[пауза]
А я ведь съездил к Лехе Сербову. Теперь жалею, что не съездил ему по физиономии. Это ведь что мне пришлось пережить второй раз за день. Вспоминать адрес студии. Стоять ждать маршрутку. А ветер сегодня совсем не летний. Да, спустя полчаса их пришло сразу три, но я-то был в очереди девятым, мне бы хватило и одной. В маршрутке меня, автомобилиста с двадцатилетним стажем, укачало. Все потому, что я никогда в жизни не пробовал давить ногами одновременно на тормоз и на газ. Мне просто в голову такое не приходило. А тут понял, что вон оно как можно ездить. Останавливаться сразу по преодолению звукового барьера.
Ладно. Выбрался из этой компьютерной игры, попал в другую. Метро. Что-то там, в туннеле зависло минут на двадцать. И тут оказалось, что войти в поезд тоже надо уметь. Что-то подобное было со мной года три назад, в Тунисе. Месяц был декабрь, но нам русским людям, что декабрь в Тунисе, что август в Сочи. Затеяли мы с Павликом купаться. Ну, каким Павликом, откуда я знаю, был там такой Павлик сорока двух лет, из Сургута, с таким вот пузом. Мы с ним подружились за час до купания. Павлик у берега плескался в желтоватой пене, а я поплыл. И недолго плыл, минут десять, но когда повернул, то понял, что обратно никак двигаться не удается. То есть двигаться-то можно, но только в одном направлении – в море. Я-то уже как бы оттуда, а волны – нет. Они все – туда. Одну преодолел, а там еще пятнадцать. Плыву-плыву, а все метрах в ста от берега, и вот уже пора тонуть.
Вот и в метро сегодня также. Я только собираюсь войти, а все уже там и «осторожно двери закрываются». Я следующего поезда дождался, а вокруг опять толпа и опять каждый на полшага быстрее. Тогда в Тунисе Павлик меня на берег вытащил, героя драного. А сегодня точно такой же павлик за шиворот в пятый по счету поезд втащил. Спасибо тебе добрый человек, не знаю твоего имени-отчества, пахнешь ты сильно, помог.
Дальше – пешком от Белорусского вокзала в дебри Большой Грузинской. Тут свое. Пришлось преодолевать «проклятие четырех машин».
Объясню. Давным-давно, когда я имел машину, я на ней ездил. Ну, такая была привычка. И всегда, и везде при выезде на основную дорогу я должен был дождаться, пока проедут четыре автомобиля, а потом выруливать. Не три. Не пять. Четыре автомобиля, включая автобусы, автокраны и болиды «формулы один». И сегодня, переходя через улицу, я каждый раз ждал, пока проедут очередные четыре машины. Во двор к Сербову я зашел, пропустив красный Лексус RX300; девятку, потрепанную жизнью; Вольво S40 с царапиной на боку и (внимание!) маму с мальчиком, тянувшим на веревочке игрушечную машинку.
Ну, в общем, добрался. В лифте не застрял. Квартиру нашел. Позвонил, точнее, потыкал несколько раз пальцем в кнопку, без видимого и слышимого результата. Звонок не работал. На стук никто не отозвался. Но я был к этому готов. Разбег от лифта и прыжок в дверь (во мне 87 килограммов) должного эффекта не дал. С первого раза. А с пятнадцатого дал. Дверь открылась, я влетел в холл. Приземлился удачно, сантиметрах в сорока от противоположной стены, а она, между прочим, в трех метрах от двери.
Леха же, не глядя в мою сторону, закрыл дверь, не отрывая тапочек от паркета, прошуршал в соседнюю комнату, лег на диван прямо в тапочках и отвернулся к стене. «Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе». Кто-то про кого-то так написал. Совсем как про Леху. Работой, правда, здесь не пахло. Ну, в смысле красками. Старыми ботинками пахло. И еще – заплесневевшим хлебом. И никаких тебе холстов, мольбертов, палитр и на чем там еще рисуют. Много пыли и тоски, мало воздуха и света.
Первым и, кстати, последним моим достижением этого вечера, стало открытое окно. Впрочем, нет. В ходе непринужденной светской беседы он произнес две фразы. Но какие! Первая: «У меня нет дочери». Ну, это понятно. Вторая: «Найди Карину и пиши тогда обо мне что хочешь».
Общий итог: я спас звезду андеграунда от кислородного истощения и получил условное благословение на сочинение ее, нет его, ну, в общем, звезды этой, клинвышибать, художественной биографии.