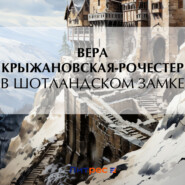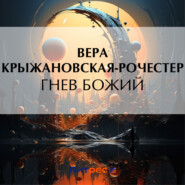По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Два сфинкса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лихорадочный румянец, пылавший на всегда бледном лице мага, его отрывистое дыхание, страстный взор, новые и чуждые речи, произносимые дрожащими губами – все доказывало, что душа, так долго сдерживаемая в своих порывах работой и знанием, проснулась наконец от своего векового сна и с отчаянием взывала: Homo sum! Я тоже подвержен всем человеческим слабостям!
Какой ужасный и непостижимый закон разбил этого мудреца, казалось, победившего все? Что низвело этого гиганта власти и могущества до роли просителя? Что пробудило в этой строптивой душе жажду пользоваться своими человеческими правами, которые он всегда отвергал?
– Полюби меня, Эриксо! Дай мне частицу того счастья, каким наслаждается каждое создание, и за этот час любви, блаженства и забвения я дам тебе все, что ты ни спросишь у меня.
– Все? – пробормотала Эриксо, и в ней шевельнулось было чувство жалости и участия к этому необыкновенному человеку, так странно побежденному судьбой, но эти чувства быстро сменились ненавистью и горечью, наполнявшими ее душу.
– Все? – повторила она, и белый огонек вспыхнул в ее глазах. – Ты мне дашь все, чего бы я ни попросила у тебя?
Видя, что Аменхотеп побледнел и смешался, она прибавила:
– Не бойся! Я не стану просить, чтобы ты вернул меня к нему.
– В таком случае, возлюбленная моя, я дам тебе все, что только в пределах моей власти. Располагай мною! Мое знание, как и моя любовь, у ног твоих.
– Дай мне в этом клятву мага и я забуду прошлое и будущее! Я буду думать только о добре, которое ты мне сделал, буду любить тебя и дам тебе часы счастья, которые ты просишь у меня.
Аменхотеп выпрямился. Глаза его сверкнули, а голос твердо звучал, когда он поднял руку и произнес:
– Клянусь моей звездой мага исполнить все, что ты ни попросишь у меня! – и над челом его брызнуло ослепительное пламя – свидетель его клятвы.
Эриксо с криком радости бросилась в его объятия, обвила его шею руками и горячо поцеловала в губы.
Опьяненный и ослепленный страстью, он не заметил жестокой улыбки, скользнувшей на ее устах.
Счастливый, словно переродившийся Аменхотеп сел на скамейку рядом с Эриксо и стал говорить ей о своей любви, о вынесенных им муках ревности и о будущем их, полном счастья, о котором он мечтал.
И она с удивлением рассматривала его. Он, казалось, помолодел и похорошел; суровая строгость черт сменилась радостным беззаботным и нежным выражением. Он стряхнул со своих плеч бремя векового труда, изысканий и побед над природой и собой, чтобы снова сделаться человеком, каким был, пока не переступил рокового порога пирамиды.
– Идем! Отпразднуем наш союз! – радостно вскричал Аменхотеп, увлекая Эриксо в соседнюю большую комнату.
Там был уже приготовлен роскошно накрытый стол на два прибора. Она не могла прийти в себя от изумления, когда увидела, что не пивший ничего аскет, живший только горстью риса, овощами и стаканом молока, осушал кубок за кубком вино, огненным потоком разливавшееся по его жилам, где до сего дня текла лишь такая же подчиненная воле влага, как и он сам. Ужели это тот самый неутомимый труженик, ежедневный отдых которого состоял исключительно из двух освежающих ванн, убивает теперь свое драгоценное время за пиром и любовным увлечением.
Снова чувство участия и жалости шевельнулось в сердце Эриксо, но снова горечь и жажда мщения взяли верх. С ума она что ли сошла, когда жалеет его – никогда не жалевшего ее, отнявшего ее юную жизнь и никогда прежде не удостаивавшего ее любви, и теперь, когда она любит другого и принадлежит ему, навязывающего себя ей?
Что за жизнь в стенах этой темницы? Не для Аменхотепа же хотела она жить и быть красивой!
Нет! Она заставит его жестоко расплатиться за эти часы любви, которые он вырвал у нее. И чем скорей пробьет час ее мщения, тем лучше!
Когда Аменхотеп встал из–за стола, Эриксо тоже с улыбкой поднялась и дала увлечь себя в брачную комнату. Тяжелая портьера опустилась за ними…
Восходящее солнце заливало пурпуром горизонт, превращая в миллионы бриллиантов капли росы, дрожавшие на цветах и зелени, когда на террасу вышли Аменхотеп и Эриксо. Она была бела, как ее туника; он – сиял счастьем. С минуту они молчали; затем маг спросил с веселой и беззаботной улыбкой:
– Что же, возлюбленная моя, ты не спрашиваешь платы за блаженство, которым ты одарила меня? Что должен я сделать? Что придумало твое маленькое сердечко? Что желаешь ты, чтобы я дал тебе?
Эриксо вздрогнула и обернулась, смерив его мрачным взглядом.
– Что хочу я, чтобы ты мне дал?.. Смерть! – ответила она, отчеканивая каждое слово.
Пораженный Аменхотеп зашатался и отступил назад. Дыхание захватило и холодный пот выступил у него на лбу.
– Смерть? – повторил он. – Что ты требуешь, безумная? Знаешь ли ты, что такое смерть?
– Да, знаю, – ответила Эриксо, и лихорадочный румянец залил ее лицо. – Смерть – разрушение этой материи, которую я влачу целые века, не видя радости и не живя настоящей человеческой жизнью. Смерть – это возвращение в вечное пространство, где ты, тиран жестокий, не подчинишь меня себе больше, так как власть твоя кончается на краю могилы. Торопись же возвратить мне свободу! Или ты осмелишься изменить своему слову мага, презренный?
Аменхотеп молчал и закрыл лицо руками. Тяжелое, хриплое и отрывистое дыхание, высоко вздымавшаяся грудь доказывали, какая буря бушевала в его душе. Прошло несколько минут, показавшихся Эриксо целой вечностью. Затем он выпрямился. Аменхотеп был смертельно бледен, и затуманенный взор его как бы угас.
– Только женщина могла придумать такое мщение и принести в жертву ненависти драгоценнейшее благо человека, – сказал он глухим голосом. – Но если жизнь со мной для тебя хуже смерти, я возвращаю тебе свободу. Ступай, вернись к супругу, который тебе так дорог и… будь счастлива! Тюремщик не станет вмешиваться больше в твою жизнь, а издали будет благословлять тебя за ту минуту счастья, которой ты его одарила.
Эриксо вздрогнула и онемела от удивления. Она взглянула на расстроенное и как бы постаревшее лицо Аменхотепа. Она мгновенно взвесила и оценила неожиданно предложенный ей дар – и вдруг жизнь показалась ей невыразимо пустой и бесцельной, а будущее, с его неизбежной утратой всего, что ей было дорого, – какой–то мрачной бездной, полной слез и страданий. Пред ней восстала старость, с ее морщинистым лицом, седыми волосами и согбенной спиной – и она, которая всегда была молода и красива, пришла от этого в ужас.
Нет! Умереть она хотела во всем обаянии своей красоты; хотела быть оплаканной этим самым Аменхотепом и вечно, как радостное видение, жить в воспоминании Ричарда.
– Нет, – сказала она, задумчиво качая головой, – дай мне смерть! Я устала, жажду покоя и хочу взмахнуть, наконец, своими духовными крыльями, чтобы улететь в пространство. Ужели ты, Аменхотеп, проникший в неведомый мир, станешь отговаривать меня вернуться туда?
Хриплый вздох вырвался из груди мага. Не отвечая ни слова, он повернулся и тихо направился в лабораторию, где бессильно опустился в кресло у стола.
С минуту он размышлял, опершись головой на руку. Сердце его было разбито полученным ударом, но могучий, дисциплинированный дух, мало–помалу приобретал обычную над собой власть.
– В чем грешен – тем и наказан! Сказание об Ахиллесовой пяте вечно справедливо, – пробормотал он. – Я дозволил беспорядочной страсти овладеть моим разумом и, ослепнув, не заметил, как в уме этой женщины зародилась дьявольская мысль. Но теперь уже поздно: я должен сдержать данное мною слово.
Он пододвинул к себе кубок, налил его до половины вином и прибавил несколько капель какой–то бесцветной жидкости. Затем медленно вернулся на террасу. Когда он проходил через комнату, где вчера еще был так счастлив, кубок казался ему тяжелым, как скала.
Эриксо ждала его, прислонившись к колонне. Она задумчиво смотрела на восход солнца, закат которого ей не суждено уже было увидеть. Услышав шаги Аменхотепа, она обернулась. Маг принял свой обычный суровый и гордый вид. Глубокая складка прорезала его бледный лоб, а взгляд стал по–прежнему блестящ и непроницаем. Рука его дрожала, когда он подавал Эриксо кубок и глухо сказал:
– Возьми! Это даст тебе смерть, которую ты требуешь, как плату за твою любовь. Тебе заплачено!
Она с удивлением посмотрела на него. Затем медленно протянула руку и взяла кубок. С минуту взгляд ее задумчиво блуждал по окружавшей ее волшебной картине и остановился на Аменхотепе, который, прислонясь к колонне, мрачно смотрел на нее. Она быстро поднесла кубок к губам и залпом осушила его.
Ледяная дрожь пробежала по всему телу и она выпрямилась во весь рост, глаза широко раскрылись и по щекам разлился лихорадочный румянец. Лучи солнца играли на ее распущенных золотистых волосах и на серебряной вышивке туники, заливая всю ее золотистым светом. Никогда еще она не была так чудно прекрасна, как в эту минуту. Вдруг она поблекла, лицо приняло сероватый оттенок и она опустилась на каменные плиты. Минуту спустя Эриксо представляла собой словно бесцветную статую.
Аменхотеп наклонился к ней и дунул: поднялся столб серой пыли, и утренний ветер разнес его.
– Душа, обитавшая в этой тленной оболочке, где ты? – пробормотал маг, взяв горсть праха, который представляло тело Эриксо.
Убитый горем, он застонал и опустился на каменные плиты.
Сколько времени пробыл он в таком оцепенении, полном отчаяния, он и сам не мог бы сказать. Очнуться заставило его прикосновение руки и чей–то голос, удивленно спрашивавший:
– Кто ты, старик? Как осмелился ты проникнуть сюда?
Аменхотеп выпрямился и узнал одного из своих учеников, Виасхагану. Но отчего тот не узнал его? Аменхотеп машинально встал и дал отвести себя к воротам сада. Но едва ученик исчез в тени деревьев, как Аменхотеп стряхнул с себя оцепенение, сковывавшее уста его, быстрыми шагами вернулся во дворец и заперся в своей лаборатории.
Он остановился в задумчивости и сжал голову руками. Затем, решительным жестом откинул завесу и взглянул на себя в большое зеркало.
Кто ты? – мог он тоже повторить слова Виасхаганы, увидав сгорбленного, морщинистого и седого старца – отталкивающий образ изношенного и разрушенного временем организма.
– Что я наделал? – вскричал он, бессильно падая в кресло и дрожащими руками закрывая лицо.