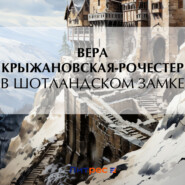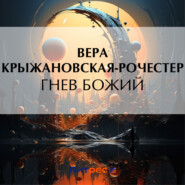По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бенедиктинское аббатство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я был полон надежды и радости, когда однажды утром мне принесли письмо от Эдгара, взволновавшее меня до глубины души.
Энгельберт, – писал он, – ты имеешь полное право презирать меня, потому что я еще жив и произнес обет, но я остался жить только для того, чтобы мстить. Внутренний голос говорит мне, что это удастся. Подобно кроту, я пророю себе подземный ход; дойду до этого негодяя и заставлю его умереть такою смертью, что сами демоны ада позавидуют моей выдумке. Одна эта надежда и поддерживает мое жалкое существование.
Не проси у меня свидания. Я хочу увидеться с тобой только после того, как наслажусь мучением моего смертельного врага и буду держать в руках его сердце.
Эдгар-Бенедиктус.
Сердце мое болезненно сжалось. Обеление Эдгара наступало слишком поздно. Но чего бы это ни стоило, надо было доказать его невиновность и, хотя бы этим путем, утешить разбитое сердце моего бедного друга.
Через несколько дней Бертрам объявил мне, что побег Марии дело решенное; она скроется переодетая горничной.
Тогда только я сообщил обо всем графу фон Рувен, и он с признательностью прижал меня к своему сердцу.
– Бедный сын мой, – сказал он, – не в состоянии более драться сам, но по крайней мере я могу вызвать этого подлого Вальдека.
Получив от Бертрама условленное послание, я отправился в гостиницу и нашел там Марию; она объявила мне, что для Эдгара готова на все и перед всеми разоблачит недостойное поведение своего отца и мужа. Бертрам тайно проведет ее на место турнира, где она появится в нужный момент.
Графиня Матильда очень удивилась внезапному решению мужа присутствовать на турнире, но так как, несмотря на ее возражения, он настаивал на своем, то ей пришлось сопровождать его.
Утром того дня, когда должны были начаться состязания – через день после побега Марии, – Бертрам прибыл с молодой женщиной. Граф фон Рувен принял ее и отвел сначала к герцогу, которому она открыла истину, а затем в ложу своей жены, где Мария поместилась с опущенным вуалем, чтобы раньше времени не быть узнанной.
Очевидно, оба сообщника не знали еще о побеге Марии.
Я знал от Бертрама, что они покинули замок днем раньше, и барон Фалькенштейн спокойно сидел в ложе, готовый любоваться подвигами своего зятя, который в блестящем вооружении гарцевал по ристалищу, не боясь самых отважных рыцарей.
Когда герцог занял свое место на трибуне, граф фон Рувен появился на арене и вызвал Вальдека, обвиняя его в предательстве, вероломстве и кощунстве, выразившемся в том, что он осмелился обратиться к суду Божьему, для доказательства будто бы правдивости своего заявления о похищении жены, тогда как барон Фалькенштейн держал ее у себя в плену. Услыша такие обвинения, рыцарь Ульрих вздрогнул и хотел говорить, но герцог с презрением сказал:
– Я знаю все, – и указал на ложу графини фон Рувен, где стояла Мария с поднятым вуалем и наклоном головы подтвердила все обвинения против мужа.
Противники разошлись по своим палаткам, чтобы приготовиться к поединку; но граф фон Рувен появился один на ристалище. Тщетно три раза герольд вызывал рыцаря фон Вальдека, он не шел. Тогда послали за ним конюшего, но тот вернулся испуганный и доложил, что палатка пуста и рыцарь Ульрих бесследно исчез.
После этого граф фон Рувен приблизился к ложе бесчестного барона Фалькенштейна, прикрывавшего всю эту ложь, и, бросив ему в лицо железную перчатку, сделал вызов.
Барон встал, вне себя от гнева, и объявил, что принимает вызов.
Не буду описывать подробности боя, но барон, сангвиник и тучный человек, расслабленный невоздержанным образом жизни и отвыкший от обращения с оружием, быстро ослабел; получив удар от Рувена, он оступился и упал. Победитель бросился на него, уперся коленом в его грудь и вонзил кинжал в горло. Затем, вырвав окровавленное оружие, граф закричал громким голосом:
– Вероломный мертв! Я омыл честь моего сына!
Слова эти были встречены самыми горячими возгласами. Шарфы и цветы летели в сторону графа, и все зрители были радостно возбуждены. Никто не сожалел о его подлом противнике, и одна бедная Мария упала в обморок, увидав отца умирающим, но в общем возбуждении этот случай едва заметили.
Желание как можно скорее объявить Эдгару о восстановлении его доброго имени не давало мне покоя. Я воспользовался моментом, когда общее внимание было обращено на герольда, обходящего арену и троекратно возвещавшего:
– Высокий и могущественный граф Эдгар фон Рувен чист от всякого подозрения и восстановлен во всех своих правах.
Выйдя из ложи, я вскочил на лошадь и во весь дух помчался по дороге в монастырь.
* * *
Через несколько часов я остановил покрытую пеной лошадь перед высокими, мрачными воротами Бенедиктинского монастыря и дернул звонок; раздался пронзительный звук, подействовавший мне на нервы. Слышать часто этот шипящий звон должно быть пыткой… Увы! Я не знал тогда, что мне придется привыкать к нему.
Звон ключей возвестил мне приближение брата-привратника, и в калитку выглянуло сухое, суровое лицо старого монаха.
Я ответил на его вопросы, что желаю переговорить с братом Бенедиктусом, в мире графом фон Рувен.
– Для этого нужно разрешение настоятеля, – возразил привратник. – Войдите и следуйте за мною к Его преподобию.
Он отворил массивную дверь, и мы пошли по мощеному двору; отворилась вторая дверь, и мы стали подниматься по винтовой лестнице.
Я чувствовал себя нехорошо; меня давили эти темные своды, длинные коридоры, слабо освещенные высокими готическими окнами, узкими, как бойницы. Нам встретилось несколько черноризцев, вид которых еще более усилил сжимавшую мое сердце тоску.
Наконец проводник мой остановился перед дверью точеного дуба и тихонько постучал в нее. Немедленно дверь приотворил послушник, выглянул в нее и, узнав в чем дело, тотчас исчез. Через несколько минут дверь снова распахнулась, послушник сделал мне знак следовать за ним и провел меня через многие комнаты в небольшую залу, посреди которой стоял богато сервированный стол; в кресле с высокой спинкой сидел человек, довольно полный, с золотым крестом на шее, и обедал. Это был настоятель.
Я почтительно подошел под его благословение, а он справился о цели моего посещения.
В его лице не было ничего замечательного, но оно казалось добродушным и простым. Одаренный от природы верным глазом, я заметил, однако, на этом ласковом лице резко обрисованный рот, который выражал железную волю; в полузакрытых глазах его таилась хитрость и жестокость.
Пока я в изысканных выражениях объяснял желание видеть графа Эдгара, настоятель играл своим золотым крестом, но, услыхав его имя, воскликнул:
– Вы хотите сказать брата Бенедиктуса, сын мой? Этот драгоценный член нашей общины, которого я особенно люблю за его усердие и благочестие, совершенно отказался от всяких мирских привязанностей и пустых земных отличий.
Когда я объяснил ему о реабилитации Эдгара, аббат скрестил руки, поднял глаза к небу и произнес с умилением:
– Я предвидел это. Невинность всегда торжествует.
Затем он разрешил мне просимое свидание, и брат провел меня в одну из комнат, которыми я проходил, идя к настоятелю.
– Потрудитесь обождать здесь, – сказал монах. – Я предупрежу брата Бенедиктуса.
Оставшись один, я подошел к окну, и чудное зрелище представилось моим глазам.
С этой высоты, как с птичьего полета, видно было на несколько верст; внизу, под горою, лентой извивалась дорога, а вдали виднелась черная масса башен замка Рувен.
Я вздохнул над такой насмешкой судьбы, которая, лишив всего несчастного Эдгара, поместила его так, чтобы он мог всегда видеть замок своих предков и свои утраченные владения.
Я обернулся на шум отворившейся двери, но с трудом узнал Эдгара в бледном монахе, стоявшем у входа. Он очень изменился и в этой длинной черной рясе казался выше и худее, нежели в рыцарской одежде.
С радостным криком бросились мы в объятия друг друга. Эдгар был очень взволнован; я видел это по сильному биению сердца, вздымавшего его грудь.
– Друг, – сказал я, высвободившись из его объятий и сжимая обе его руки, – я принес радостные вести. Ты оправдан, все права возвращены тебе; сегодня на турнире все открылось.
При этих словах лицо Эдгара смертельно побледнело; он пошатнулся и удержался за косяк окна.
– Оправдан? – повторил он. – Слишком поздно!
Но вдруг он порывисто схватил мою руку и прошептал, задыхаясь:
– Энгельберт, я оправдан, а между тем погиб, связан. Взгляни на эти нерасторжимые оковы, которые я всюду влачу на себе!..