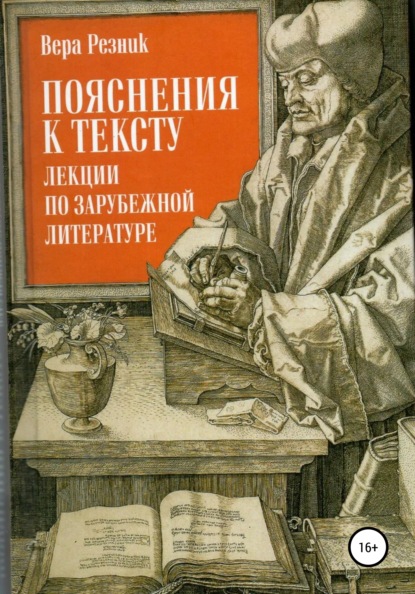По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пояснения к тексту. Лекции по зарубежной литературе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но если серьезно, подумайте только: те, кто составлял честь и славу нации, национальную гордость, изгоняются и шельмуются хамами и ничтожествами со смехотворными претензиями на выражение истинно немецкого духа – они, видите ли, тоже вооружились идеологией. Какова же она, эта их идеология? – Это немецкий миф, Нибелунги, перетолкованный ничтожествами в истинно-немецком духе Ницше. Дело, однако, в самом уровне понимания мифологии и философских идей. Есть печальная правда в высказывании о том, что идея, спустившаяся в массы, становится солдатской девкой. Вероятно, у Вагнера и Ницше было за что зацепиться, раздуть и извратить, и вообще приспособить к своему хамскому уровню. Я полагаю, однако, что они не несут за это ответственности, хотя это предмет больших споров. Например, насколько запятнал себя великий немецкий философ Мартин Хейдеггер, не бывший эмигрантом, но бывший членом нацистской партии и занимавший в течение года пост ректора университета. Вообще у части интеллектуалов первое время, в самом начале, были известные соблазны. Потом, однако, многое быстро прояснилось. Дело вот в чем, об этом писала известный литературовед Лидия Яковлевна Гинзбург: мысли и переживания не могут быть этически обязательными, мы думаем то, что думаем, и чувствуем то, что чувствуем, и иногда это вполне страшные мысли и чувства, и надо не прятаться, нужно отдавать себе в этом отчет. Мыслитель не может думать и говорить не то, что он думает. Дело в том, что этически обязательны наши поступки – вот делать то, что мы иногда думаем, никак нельзя, это уже правила, накладываемые культурой. А потому я не уверена в том, что Иван Карамазов несет ответственность за поступок Смердякова. Там, впрочем, имеются нюансы. А вот хам делает из сказанного великим философом свои хамские выводы, и мы получаем какую-нибудь «accion directe».
Вот на этом-то фоне, можно сказать, с благословения Гете Манн затевает войну с фашистским истолкованием мифа вообще, ведь фашизм, неизвестно на каком основании, присвоил себе право на монопольное владение мифом. Обратите внимание, всякий оголтелый и тупой национализм начинается с выявления глубинной родословной, с неких пра-корней, обосновывающих какое-нибудь монопольное право. Сейчас и таджики с узбеками спорят, одни говорят мы от Зороастра и потому имеем право, а вы от кого?.. Я не случайно говорю об этом так долго, мы ведь позже и у французского писателя Пруста тоже столкнемся с проблемой генеалогического снобизма, сравнительно безобидного варианта тех же состояний ума и души. И вот режим принялся опираться на древнегерманские мифы, а они были мрачными и кровавыми и кончались, как вы помните, всеобщей гибелью в Валгалле. Однако, в частности, что такое миф? Миф – это модель поведения на все времена: так вели себя наши великие герои и предки, и вы должны себя так вести. Миф создает ощущение опоры на исконное, на основы, поэтому германская идеологическая машина попыталась заменить иудейско-христианский миф, Библию, древнегерманским, индоевропейским. Оставьте, мол, эти ваши утешительные иудейско-христианские сказки, воспламените в недрах души верования своих германских индоевропейских предков, приготовьтесь к великой битве между нашими богами и демоническими силами. Вот с этим следовало бороться, из рук этого противника надо было выбивать оружие. Кроме того, сознательный вызов был и в обращении к истории еврейского народа, это ведь в такое-то время и о евреях… Правда, тем не менее, состояла в том, что история еврейского народа понималась вовсе не как история этноса, но как история человечества – таков и был замысел. Не история кровавой гибели в Валгалле, но гуманистический, трепетно-теплый, со слезами и смехом и благополучным концом миф – именно поэтому и была избрана история про Иосифа Прекрасного. Договоримся о том, что вы прочитаете или перечитаете этот эпизод в Библии (кн. Бытия, гл. 28). Будете знать, по крайней мере, сюжет, которому Манн строго следовал, притом, что сама история, как всегда, немыслимо разрослась. Однако сегодня, когда мы говорим о мифе в «Иосифе», мы должны коснуться, насколько это в наших временных рамках возможно, еще одного аспекта того же вопроса, постоянно дискутирующегося и присутствующего в умах интеллектуальной гуманитарной элиты в двадцатом веке.
Я вот вам все говорю: миф, миф и пытаюсь объяснить, почему и к какому мифу обращались германские политики в тридцатые годы и к какому мифу и почему обращался Томас Манн и обронила при этом слова о том, что миф – это, мол, модель поведения на все времена, не объясняя подробнее, что к чему. Но дело в том, что почти все художники двадцатого века, Манн, Гессе, Кафка, Джойс, Борхес, Набоков созидали свое искусство, играя с мифом. А вы вот сейчас, сидя передо мной, когда я говорю: «миф», зная древнегреческие мифы и еще кое-какие стародавние побасенки из истории культуры разных народов, более или менее, в общих чертах представляете себе, что это такое, у вас есть на этот счет некое общее представление. Но толком, что это такое и какое отношение к нашей жизни имеет и почему именно в нашем двадцатом веке писатели на мифе так «зашлись», вы не понимаете. Поговорим об этом немного подробнее.
В традиционном понимании мифы – это античные, библейские и другие старинные сказки о сотворении мира и человека, а также о деяниях древних богов и героев, поэтические и причудливые. Сначала были известны мифы по преимуществу античные, позже до нас стали доходить африканские, австралийские, индейские мифы. Мифологическими мотивами переполнены все мировые религии, есть на этот счет очень интересная книга Фрэзера «Фольклор в Ветхом завете». Мифы в конце девятнадцатого и в двадцатом веке подверглись сравнительно-историческому изучению, и в итоге было установлено, что в мифах разных народов, при всем их многообразии, целый ряд тем и мотивов, а также сюжетных элементов, повторяется. Самым необъяснимым образом совпадают какой-нибудь индейский и сибирский миф, притом что миграцией и бродячими сюжетами – так часто объяснял совпадения сравнительно-исторический метод – всего не объяснить. Уж очень нередки совпадения там, где никаких исторических связей не было, у друг от друга совершенно изолированных культур. Например, легенда о смене кожи и связанной с этой сменой утратой бессмертия есть у всех народов мира. Или сказание о великом потопе, вошедшее позже в Ветхий Завет, есть в Австралии, в Гвинее, Полинезии, Южной Америке, Северной Америке и Африке и т. д. Как это понять, если, например, никаких отношений между народами, населяющими Сибирь, и южноамериканскими индейцами отродясь не бывало, а мифологические сюжеты и соответствующие персонажи и ходы совпадают? На этот счет имеются разные точки зрения, иногда говорят, что просто у нас головушка на один лад устроена и одинаковые вещи выдумывает, особенно если уровни развития одинаковые. Правда, с уровнями дело обстоит проблематично, непонятно, как его сравнивать. Кстати, в веке восемнадцатом, Просвещения, и вплоть до недавних времен предполагалось, что мифы враки, «объясняльные» выдумки тех, кто по отсталости не понимал физической сущности природных явлений и придумывал себе нелепые на наш «просвещенный» взгляд объяснения. Как на данной стадии могут, так и объясняют, и мифы это не что иное, как первобытная наука. Так считал знаменитый исследователь Тайлор (вообще первыми этим вопросом вплотную заинтересовались немецкие романтики, сказочник Якоб Гримм). Но вот в конце девятнадцатого века и, особенно в начале двадцатого, этим вопросом занялись весьма основательно. Очень известный этнограф Бронислав Малиновский считал, что миф это не просто повествование, рассказанная история, имеющая символическое и аллегорическое значение, но это некое «священное писание» архаических народов и оно соответственно переживается. В нем очень важен обряд, ритуал, потому что обряд, ритуал поддерживает и укрепляет общество. Что такое, например, национальный флаг? Это объединяющий тотем, цементирующий общество в понимании определенных ценностей. Встать и руки по швам!
В начале двадцатого века очень известный французский ученый Люсьен Леви-Брюль (вообще французские ученые, школа, особенно знамениты), разработал свою теорию. Он ввел термин «мистическая партиципация», или «мистическое соучастие»: это, например, когда ваши родители бранятся без повышения тона, а собачка в ужасе под столом дрожит, мы в этих случаях иногда употребляем современное непонятное слово «телепатия». Карл Густав Юнг подхватил эту идею, называя это отношением влияния на партнера или собеседника, ну например, когда собеседник подхватывает мысль или продолжает ее за вас, предугадывая ваше желание и т. д. Так вот, Леви-Брюль разработал теорию такой мистической партиципации применительно к архаическому мышлению. А позже Клод Леви-Строс, ученый, оказавший исключительное влияние на гуманитарные общественные науки в 20-ом веке, доказал, что не жили дикари в невинной простоте и блаженстве добродетели, вдалеке от порочных соблазнов интеллекта, и свободы у них было меньше, а больше было всяких правил, и мыслили они, хотя и на свой лад, но очень строго. Интересна теория немецкого философа Эрнста Кассирера: согласно Кассиреру, мифическое сознание представляет собой код к которому нужен ключ. Специфика мышления диких, по Кассиреру, состоит, в частности, в том, что они не различают реальное и идеальное, вещь и образ, а весь космос или универсум, или мир у них базируется на различении священного и профанного. Для Фрейда мифы – это вытесненные в подсознание сексуальные комплексы. Идеи швейцарского психолога, мифолога и специалиста по средневековой алхимии Карла Густава Юнга тоже вещь увлекательная. Юнг создал аналитическую психологию (в отличие от фрейдовского психоанализа). Еще он называл ее то «западной йогой», то «алхимией двадцатого века». Он был учеником Фрейда, разошедшимся с учителем вовсе не в связи с политическими вопросами, как это любят изображать, а в связи с капитальными научными разногласиями. Юнг в отличие от Фрейда, не собирался все на свете сводить к сексуальности. Юнг обратил внимание на то, что в мифах, а также в снах, человеческих фантазиях и поэзии очень часто встречаются некие сходные, общие элементы, и эти элементы нужно как-то истолковывать, потому что они слишком невероятны для того, чтобы значить то, что они говорят непосредственно. Вот эти повторяющиеся во всевозможных человеческих фантазиях сходные элементы Юнг назвал архетипами, первообразами.
Это слово возникло в комментариях к философии Платона, сделанных еще в раннехристианскую эпоху Блаженным Августином («типос» по-гречески – отпечаток). Так вот мифы и сказки – это архетипы, и внутри мифов и сказок имеются тоже разные архетипы. Архетип можно представить как некую кристаллическую структуру, которая способна наполняться более или менее разным сюжетом (скажем, когда вы говорите о каком-то человеке, что он – Иуда, вы наполняете схему, имеющуюся у вас в голове (евангельский Иуда), реальным содержанием. Иуда – источник, прототип – это как бы инвариант, есть такое слово в лингвистике. Например, понятие лес – это инвариант, а варианты – реализации этого понятия в разных языках: forest, bois, foret, bosque. Или, например, идея враждебного существа – это система осей кристалла, схема, а ее конкретное заполнение: русалка, Кощей Бессмертный, чудо-юдо, домовой, леший и т. д. Вплоть до современных враждебных существ или тех, кого мы идентифицируем с враждебным существом. Или, например, тот же самый потоп, имеющийся у всех народов, образ, распространенный повсеместно и не объяснимый никаким заимствованием: в каждом случае это свое описание потопа, но это потоп. Или вот внутри мифа об Иосифе, архетипической истории Иосифа, есть еще один архетипический мотив: когда братья Иосифа пришли из Палестины в Египет, чтобы купить там зерна на время голода и уже собирались в обратный путь, Иосиф, бывший правителем Египта и неузнанный братьями, велел подложить потихоньку в мешок младшего, любимца отца Вениамина, свою серебряную чашу. Еще не успели братья как следует отойти от города, как Иосиф посылает им вослед своего управителя, приказав ему найти чашу и обвинить братьев в краже. Чашу находят, братьев приводят обратно, и Иосиф говорит им: «Разве вы не знали, что такой человек, как я, непременно угадает?»
Что значит эта фраза? А значит она, что Иосиф особенно гордится своим умением обнаружить вора, гадая по чаше. Гадание с помощью чаши было известно как в древнейшее, так и в новейшее время, хотя приемы этого гадания были неодинаковы. В одних случаях в хрустальную чашу наливали чистой воды и гадали по ее поверхности, в воде отражалось будущее того, кто просил погадать. Греки такой способ гадания называли гидромантией, иногда в воду бросали геммы, чтобы появилось отражение богов. В Египте такой способ гадания практиковался, по крайней мере, до начала века и назывался он «волшебное зеркало»: это ритуал, когда мальчику велят смотреть в чашу с водой, причем сама чаша расписана священными текстами. Под шапку мальчику засовывают бумагу с изречениями из Корана, заклинатель спрашивает, что мальчик видит, велит ему передать духу поручение или вызвать лицо, какое хотелось бы видеть. Когда, естественное дело, мальчик описывает это лицо невпопад, он оправдывается тем, что персонаж не хочет выходить на середину чаши и прячется в тени с краю. Иногда чашу наполняют не водой, а, чем-то другим, и не обязательно чашу. Соответствующий ритуал описан Хорхе Луисом Борхесом в притче «Чернильное зеркало», причем чернила наливались на ладонь гадальщика, но функционально это одно и тоже, да и вообще это борхесовское переложение сказок «Тысячи и одной ночи». В Скандинавии думают, что в четверг вечером в ведре с водой можно увидеть лицо обокравшего тебя. А на Таити, если обратиться к гадальщику, то он покажет тебе на это лицо в тыквенном сосуде, наполненном водой. А в Уганде знахарь берет сосуд с водой и бросает туда несколько кофейных зерен и по тому, как они всплывут и перевернутся, толкует волю богов. В Европе, чтобы предсказать течение болезни, смотрят на брошенные в сосуд с водой раскаленные угольки или опускают кусочек расплавленного свинца или воска и ответ дают по той форме, которую принимают брошенные вещества. Так же в Литве, Шотландии, Ирландии, Швеции. Известные слова Христа, сказанные им в Гефсиманском саду: «Да минует меня чаша сия» – метонимия, означающая: да минует меня жребий сей. Вот к одному из таких приемов, вероятно, прибегал Иосиф, гадая на своей чаше. Вот это и называется архетипический мотив, или архетип чаши.
Есть в романе и множество других архетипических мотивов, например, злой и добрый карлики, Дуду и Боголюб. Архетипами являются не обязательно мифологические мотивы, наша голова, а точнее, по Юнгу, наше бессознательное, просто нашпиговано архетипами. Кстати, особенно много их у сумасшедших, у них сознание очень архетипизировано, все наполнено такими значащими образами-формулами.
Для Юнга мир – психическая материя, не знаю, какое слово употребить, может быть, действительно, лучше не материя, а океан. И большая часть этого океана – бессознательное, а в нем, как острова, плавают участки сознания. Причем, у каждого отдельного человека есть свое сознание и свое бессознательное, но еще есть некое коллективное бессознательное, в котором мы все живем, нечто подобное океану из лемовского Соляриса, если читали или фильм Тарковского смотрели. Вот это коллективное бессознательное и является хранилищем архетипов, они всплывают время от времени в сознании отдельного человека, но живут вот в этом коллективном психическом начале или бессознательном. Только этим можно объяснить феномены парапсихологии и того, что мы часто именуем психическими аномальными явлениями, а Юнг называет синхронией: ты, например, видишь тяжелый тревожный сон, а потом узнаешь, что в это время умер знакомый. Юнг пытается объяснить именно такие вещи. И вообще сны, по Юнгу, это способ восстановить некий утраченный баланс, утраченное равновесие между сознанием и бессознательным, когда сознание вытесняет в бессознательное, в забывание некоторые неприятные для себя вещи.
Юнг очень долго был практикующим врачом, у него много на этот счет разных историй. Некоторые забавны: ну вот, например, у одного профессора случилось видение, он решил, что психически нездоров и обратился к Юнгу, описав ему видение. «Нет причин беспокоиться, – сказал Юнг, взяв с полки книгу четырехсотлетней давности, – они уже знали о вашем видении», и показал ему картинку, на которой было изображено то, что профессор видел в явившемся ему видении. Тут уж профессору сделалось совсем плохо. Шутки шутками, но случаи, когда люди во сне видят что-то такое, чего они по своему образованию и местоположению знать не могут, достаточно часты. Юнг и объясняет появление этих архетипов тем, что они хранятся в океане коллективного бессознательного и всплывают всякий раз по каким-то определенным своим причинам. Причем всплывает, повторяю, именно схема, всегда наполненная у каждого чем-то своим.
Человек, разговаривающий во сне более или менее регулярно с Наполеоном или Александром Македонским, – это тоже человек, утративший баланс, он очевидно в жизни подавлен и задавлен, что и компенсируется такого рода беседами с великими людьми. Или вот история: у одного бизнесмена, запутавшегося в большом количестве сомнительных афер, в плане компенсации развилась страсть к альпинизму, он все время искал, куда бы ему забраться «повыше себя». Однажды ночью во сне он увидел себя шагнувшим с вершины горы в пустоту. Когда он рассказал сон Юнгу, тот попросил его ограничить восхождения, он даже сказал, что сон предвещает смерть в горах. Через полгода он шагнул в пустоту, сорвался, упав на друга и оба погибли. Люди с грандиозными планами и нереальными целями видят во сне полеты и падения.
Сны зачастую производят сновидческий материал, который имеет целью восстановить ваш психический баланс. Это послание от бессознательного, имеющее целью вас предостеречь или указать на какую-то погрешность. При этом Юнг категорически отрицал любые сонники: сон имеет смысл только в конкретной ситуации конкретного человека, и значение имеют только символические сны. Разумеется, знакомство с архетипической символикой может помочь истолкованию сна. Так если кто-то из вас увидит во сне что-либо связанное с чашей, то теперь, представляя разные значения этого архетипического мотива, легче будет разгадать смысл того, что говорится непосредственно вам. Мы еще будем говорить о Юнге, когда речь зайдет о творчестве других писателей и художников двадцатого века, но сегодня вам достаточно представлять себе, что такое архетип, и что многие философы и художники в двадцатом веке как раз и полагали писателя и художника неким общественным сновидцем, в памяти которого всплывают архетипы, типовые схемы, которые художник интерпретирует по-своему. Этот общественный сновидец видит предостерегающие сны, указывающие на то, что мы, как тот бизнесмен-альпинист, можем свалиться в пропасть.
Вот потому-то и избрал Томас Манн миф, архетипическую историю, сюжетом своего нового романа, что она общезначима, что это не частный случай, но частный случай, сделавшийся всеобщим, частная история борьбы с судьбой, история хитрого и умного, и к тому же, достойного отстаивания себя. Поэтому миф может быть орудием борьбы. И задача, которую ставит перед собой Манн, это гуманизовать миф. Писатель говорил: если потомки и найдут в моем романе что-либо интересное для себя, так это именно гуманизацию мифа. А о том, как миф гуманизуется или очеловечивается, помните, Ортега говорил: искусство двадцатого века дегуманизовано, нормальный человек, обыватель, себя в этих продуктах не узнает, этот сад – не сад, дом не дом. А Манн как раз сделал наоборот: он облек суховатый библейский сюжет плотью и кровью, сделал его узнаваемым для людей, придвинул поближе к нам, выдумал детали, пустил в ход все средства языка – речь в книге стилизованная, шутливая. Вообще я уже говорила, что для внимательно читающего этот тяжеловесный немец – великий шутник, эти словесные плетения не имеют ничего общего с каким-нибудь дубовым историческим романом. Манн сознательно отстраняется от невменяемой серьезности, дистанцируется от нее, у него фараон Эхнатон, Аменхотеп Четвертый, чьей женой была известная дама Нефертити, в разговоре с Иосифом говорит по-французски: «Apres nous le deluge» – «После нас хоть потоп», фразу, произнесенную, как известно, маркизой Помпадур через тысячелетия. Или пускает в ход идеи суперсовременных философских школ.
Кстати, в советскую бытность имел место в печати смехотворный спор о том, каким может быть и каким не может быть исторический роман. Он может быть любым. Разумеется, это библейская история, но фактически, это не важно – историю в нашем сознании творят писатели. «Евгений Онегин» правдивее любого исторического труда. И так это у Манна во всем романе: добротно-достоверные исторические аксессуары вперемешку с совершенно невозможными и в результате очень смешными вещами. Но тот, кто смеется, не убивает. Лучше смеяться. И добро да будет вознаграждением за страдания. Да – всезначащему мифу, да – архетипам, этим константам и универсалиям человеческого мира, но долой кровавую и человеконенавистническую Валгаллу. Так создал Томас Манн свой гимн, свою 9-ую симфонию, я имею в виду симфонию Людвига ван Бетховена, ту самую, каковую увенчивает шиллеровская «Ода к Радости». Впрочем, речь о ней у нас еще впереди.
А вот еще один эпизод из той части, которую я просила вас прочитать, для того, чтобы представить себе, что это не что-то тяжеловесно-правдиво-псевдоисторическое, что это ироническая стилизация, шутка, в конечном счете. Я имею в виду тот эпизод, когда жена всевластного и бессильного царедворца Потифара принимает подруг, решив, наконец, поведать им о своей влюбленности в Иосифа. Но до этого несколько слов о самом Потифаре… Родители Потифара – брат и сестра Гуий и Туий, отвратительные ханжи – старикашки, изувечившие собственного сынка, кастрировавшие его в угоду официальной и отживающей свой век религиозности. Но пустопорожнее следование религиозной букве с точки зрения Манна, это никакая не религиозность, ибо истинная религиозность – это вдумчивое, только и обязательно вдумчивое послушание и прислушивание к духу времени, а не упорство тупого быка. Именно поэтому так отвратительны ничему не внемлющие меднолобые Гуий и Туий.
Итак, Мут-эм-энет, формальная жена Потифара, жрица-девственница, безнадежно влюбившаяся в красавца управляющего Иосифа и три года хранившая тайну этой влюбленности, не вытерпела и пригласила подруг, чтобы поведать им о своем горе-незадаче. К приходу приятельниц накрывается стол и исполняющий по хитрому замыслу Мут роль виночерпия Иосиф обносит вином заглядевшихся на красавца подруг. Восхищенные подруги, не в силах оторвать от красавца взора, забывают об осторожности, обрезываются фруктовыми ножичками и закапывают кровью свои белоснежные одеяния. «Да посмотрите на себя, дуры!» восклицает Мут в ответ подружкам, усомнившимся в возможности ее любви.
Это, конечно, не миф, не переписывание мифа, которое просто невозможно. Я уже говорила вам, что невозможно нынче писать, как Рембрандт, и не потому, что живописца такой мощи нет, а потому что ТАК больше писать нельзя. Зато как можно? Можно так, как сделал Манн. Это игра с мифологическим сюжетом. Я сегодня впервые ввожу это слово, этот термин «ИГРА», но нам предстоит еще не раз подробно о нем говорить, а сегодня я только скажу, что игра есть вещь очень серьезная притом, что веселая. Так вот Манн играет с мифом, он пародирует и обыгрывает его, потому что это единственный возможный к нему подход и способ обращения с архетипическим сюжетом в двадцатом веке.
И еще, последнее об Иосифе, хотя говорить об этом романе можно бесконечно много, не только потому, что он такой толстый, а потому, что он такой многосмысленный. Прозвание Иосифа – Иосиф Благословенный. У Иосифа, об этом много говорится в романе, особое двойное Благословение: свыше, небесное, и благословение бездны, лежащей долу. Вся история Иосифа – это история неопытного юнца, возвысившегося до роли спасителя и кормильца народов, и это следствие двойной одаренности, двойного дара, земного и небесного, как сказал бы Набоков, хоть и терпеть не мог Томаса Манна. Земная одаренность – это посюсторонние чувственные радости, кровная связь с поколениями предков, верность в определенной мере, потому что вдумчивая, традициям. Небесная одаренность – это творческое беспокойство и духовный поиск. Потому и не дает себя совратить Иосиф жене Потифара, благословенной только бездной, что у него есть благословение свыше, это оно не позволяет ему предать Потифара. И в самом конце говорит вещую фразу Иосиф: «Ведь смешон человек, который только потому, что у него есть сила, пускает ее в ход против права и разума. И если сегодня он еще не смешон, то в будущем он непременно станет смешон, а ведь мы смотрим в будущее».
Когда Манн отдал рукопись «Иосифа» машинистке, она, перепечатав ее, возвратила со словами, которые могут быть расценены как наивысшая похвала писателю, она сказала: «Ну, вот теперь, наконец, знаешь, как все было на самом деле».
Роман «Доктор Фаустус»
Через день после окончания «Иосифа» Томас Манн начинает просматривать материалы к «Доктору Фаустусу», а 23-го мая 1943 года садится писать и пишет его четыре года, до 1947-го. Этот роман вкупе с «Игрой в бисер» Германа Гессе считается самым высокоумным романом для избранных. Писатель Юрий Трифонов написал некогда пользовавшуюся большой популярностью у столичной публики повесть под названием «Обмен» (имелся в виду квартирный обмен), в этой повести одна из героинь неизменно являлась родственникам и знакомым с «Доктором Фаустусом» под мышкой, она его читала вечно. Это был особого рода знак, роман в ее руках означал, что человек принадлежит интеллектуальной элите.
Кроме того, что писатель не дал себе никакой передышки, вторая трудность состояла в том, что Манн себе предрек, что в 1945-ом году умрет. Но он не умер, а заболел, я говорила уже об операции. Сам писатель считал, что именно его тяжкий роман повинен в болезни. Манн пишет роман, когда ему уже 70 лет. Вообще, знаете ли, есть известный физиологический принцип: не работающий орган отмирает… У людей, систематически умственно напрягающихся, и склероз позже и медленнее развивается.
Кстати, заболев, он написал об этом целое сочинение, он и вообще писал очень интересные сочинения о том, как он писал свои интересные сочинения. В процессе работы над романом Манн читал мемуары знаменитого русского композитора Игоря Стравинского и книгу воспоминаний о Ницше. В разгар работы он вдруг получает по почте посылку из Швейцарии, в посылке рукопись, позже скажу, чья и какая, – Манн читает рукопись и произносит загадочную фразу: «Всегда неприятно, когда тебе напоминают, что ты не единственный». Но об этом позже.
Что же представляет собой это сочинение, которое столь трудно далось его автору? Это роман об уделе нового искусства и судьбе его творца, современного художника, но косвенно это еще и роман о судьбе Германии, история немецкой гордыни и кары немецкому народу за высокомерие. Сама история, рассказываемая от лица скромного филолога-классика, латиниста Серенуса Цейтблома, происходила несколько раньше, но рассказывает ее Цейтблом, можно сказать, прямо под перо Манну, в 1943–1944 годах, в то самое время, когда приходит конец нацистскому рейху.
Многие в Адриане Леверкюне, а так зовут главного героя, видели немецкого философа Фридриха Ницше, нигде в тексте ни разу не упоминаемого. Манн не имел привычки упоминать на страницах своих произведений какие-либо реальные имена: в Тонио Крегере он не упоминает Шиллера, в «Будденброках» Шопенгауэра, в Фаустусе композитора Шенберга, хотя совершенно очевидно, что речь идет об их произведениях. Но считать, что прототип Адриана Леверкюна – Фридрих Ницше уж слишком большая натяжка, да и вообще так считать – значит сильно сужать проблематику романа. Адриан – самостоятельная и независимая фигура, образ, который Манн очередной раз одушевил, хотя действительно воспроизводятся многие эпизоды из жизни Ницше – я уже говорила, что метод одушевления, коллаж и цитация – это принципы манновского письма, этакое встраивание в нужный писателю мир и переналаживание взятого материала – творческий метод Манна. Как видите, сюжет снова связан с архетипическим мотивом. Напоминаю, архетип есть фигура события, человека или чудовища, повторяющаяся на протяжении истории, регулярно возникающая там, где свободно живет и дышит человеческая фантазия. Архетип – это итог огромного опыта бесчисленного ряда предков, психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа, в каждом из архетипов кристаллизовалась частица человеческой психики и человеческой судьбы, множества переживаний множества предков, переживаний, принявших один и тот же ход, ручейков, потекших в результате по одному глубокому руслу.
Таковой архетипический сюжет Томас Манн заимствовал из народной литературы Средневековья, в которой были распространены и пользовались исключительной популярностью легенды о чернокнижнике докторе Фаусте. У меня нет времени рассказывать о том, что сами эти легенды восходят к дуалистическим мифам противостояния света и мрака, луны и солнца, правого и левого и т. д. Упомяну только о народной книге о докторе Фаусте и «Фаусте» Гете.
У Манна, напрямую подхватившего тему народной книги о Фаусте, сюжет сведен к проблеме взаимоотношений дьявола и его жертвы, причем их он сводит в одном времени и в одном пространстве. (А вот, например, в «Мастере и Маргарите» дьявол и персонажи обитают в разных временных планах.) Как бы то ни было, обыгрывается сделка с чертом, заключающаяся в том, что за определенные блага, определенные выгоды персонаж продает свою душеньку дьяволу. Конкретно дело обстоит так: некто Адриан Леверкюн (а Леверкюн входит в когорту всех этих крегеров, ашенбахов, заблудших бюргеров, гордецов, лелеющих собственное дарование и тоскующих по обычной человеческой жизни, Леверкюн человек сугубо сдержанный, привыкший к ледяной трезвости и сосредоточенности, но вначале замкнутый, необщительный юноша) выбирает себе жизненный путь, карьеру, и останавливается, в конце концов, на музыке. К музыке у него большая склонность и незаурядные способности, хотя, сперва он хочет уклониться от своего призвания и поступает на богословский факультет, но потом все же возвращается к тому, к чему он с детства тянется и чем успешно занимается.
В сущности, сюжет в романе очень незамысловатый: Адриан выбирает себе профессию, становится композитором, пытается со временем посвататься к одной девице, но неудачно, сдруживается с одним молодым скрипачем, но тот погибает, обожает маленького ребенка, а тот умирает, но главное, параллельно этим немногим жизненным событиям, он пишет, пишет и пишет музыку. Смолоду несильного здоровья – у него мучительные головные боли, – Адриан заболевает какой-то странной, по-видимому, венерической болезнью, сходит с ума и умирает в зените славы в сумасшедшем доме.
Вот на таких нехитрых событийных скрепах держится роман-биография композитора-авангардиста Адриана Леверкюна, на этой основе взращиваются, как сказал бы сам Леверкюн, «осмотические цветы» размышлений о судьбах современного искусства. Я позволю себе задержаться только на тех эпизодах, которые мне кажутся особенно показательными.
У Адриана есть любимый учитель, органист Вендель Кречмар (с еще одним любимым учителем музыки мы встретимся, разбирая роман Гессе). Обдумывая профессии, Адриан пишет ему письмо, объясняя отчего его выбор пал на сочинительство, отчего не может он стать ни концертирующим пианистом, ни дирижером.
Дело в том, – утверждает Адриан – что его тошнит от звезд музыкального исполнительства, а равно от самой необходимости представать перед публикой во фраке с палочкой или вскидывать шевелюрой над клавиатурой – пошлость это и безвкусица. Ему не нужно эмоциональное единение со слушателями, он презирает «коровье тепло», у него от этого рвотные спазмы, как у герцога Альбрехта от народной любви. И потому, раз у него есть склонность к сочинительству, он намерен стать композитором.
Но впоследствии выясняется, что и с композиторством та же, по сути говоря, проблема. Пошлость это невыносимая – повторять за великими все их ловкие и возвышенные находки, ходы и приемы, когда того времени, в которое это произведения создавались, как не бывало. И вот, описывая музыку, предположим, симфонию Брамса, Адриан говорит, что он, как все нормальные люди, в самом патетическом месте переживает, и у него тоже рыдания подступают к горлу… но еще ему смешно, потому что он-то прекрасно знает, как ловко это сделано, и как часто этот прием с тех повторялся, и до какой степени он затертый и изношенный.
Что с этим-то делать человеку высокомерному и брезгливому, не желающему притворяться и, в сущности, мошенничать? Что делать, если все сюжеты вытвержены, а музыкальные приемы приняты к сведению и оприходованы? Как писать, как и каким способом, чтобы это была не пошлость (напоминаю: пошлость – это то, что много ходило и все по одному месту, набившая оскомину обыкновенность), выражать реально имеющиеся мысли и чувства? Ведь известно, что фонтаном произведения струятся исключительно из графоманов, а может ли бить ключом вдохновение из такого требовательного к себе, придирчивого и трезвого, ненавидящего пошлость человека, как Адриан Леверкюн? Ясное дело, нет. У таких флоберовские муки творчества.
И тогда-то на помощь Манн вызывает черта; сделка с чертом, являющимся Леверкюну, в том и состоит, что черт сулит Адриану двадцать лет неукротимого вдохновения за душеньку его. Небольшое условьице, впрочем, тоже надо соблюсти, а потом уж не обессудьте.
У меня, к сожалению, нет возможности детально сравнивать две чертовщины: полемику с чертом, происходящую в воспаленном мозгу Ивана Карамазова, и полемику с чертом Адриана Леверкюна, которой дается сходное физиологическое обоснование (возможно, Адриан бредит, поскольку болен). Доводит препирательства с чертом до сведения читателей «Доктора Фаустуса» позднее обнаруживший Адриановы записки его верный друг тишайший Серенус (обратите внимание на имя) Цейтблом. Разумеется, литературоведы обычно указывают на то, что леверкюновский черт очень внимательно читал Достоевского. Это, конечно, так. Центральная сцена «доктора Фаустуса», сцена соглашения с чертом, – архетипическое ядро повествования. И уж совсем монолитным это ядро становится от того, что эта сцена – еще и сознательный перифраз сцены из едва ли не главного романа девятнадцатого века, романа на почве которого, можно, сказать, взошла вся мировая литература века двадцатого, «Братьев Карамазовых» Достоевского. Я уже говорила о том, что в процессе письма Манн подкреплял себя чтением мемуаров Стравинского, но разве не так обыгрывал сам Игорь Федорович Стравинский в своей музыке цитаты из музыки Петра Ильича Чайковского? Это сознательная культурная игра, это снова «Apres nous le deluge» в устах Аменхотепа Четвертого, это перекличка отражений в зеркалах культуры, в зеркалах, о которых так настойчиво будут говорить аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес и русский писатель Владимир Владимирович Набоков.
Ну а пока возвратимся к тому маленькому условьицу, которое выставил Адриану черт, оно таково: пиши свою музыку и не возлюби – снова возникает манновский мотив холода всякой творческой личности, обделенности теплом, этого неминучего «или… или». И вот, приняв эти условия, Адриан начинает творить.
Обнаруживший записки Адриана его жизнеописатель Серенус Цейтблом, я говорила, не очень уверен в том, не больная ли это фантазия его друга, издавна страдавшего головными болями. Но, вероятно, к головным болям присоединяется еще кое-что, ибо случается с Адрианом такой эпизод, он частично сам рассказывает его Серенусу Цейтблому: шалые студенты богословы некогда завлекли ничего не понимающего гордого и холодного Леверкюна в публичный дом…
Общеизвестно, что Ницше страдал такими головными болями и что преходящие параличи и сумасшествие в финале были – это весьма дискутируемая возможность – следствием не излеченного сифилиса. Так в романе дается физиологическое медицинское обоснование вдохновенной одержимости, с которой творит Леверкюн.
Но, все-таки, самое важное для нас разобраться в том, какую музыку вдохновенно при пособничестве черта пишет Адриан? А такую, какую только и можно писать в двадцатом веке: серьезно-пародийную. Почтительно играя с классическим материалом, с музыкальными архетипами, осуществляя, как выражался Адриан, не экстракцию, но «терапию корней»; слишком трагические темы получают в ней комическое решение, а комическое начинает внушать уважение. Это такая музыка, в которой Аменхотеп Четвертый всегда словно бы говорит: «Apres nous le deluge». У Манна есть замечательно точное определение деятельности, которой занимается Адриан Леверкюн: «Это игра с формами, из которых ушла жизнь». Это та ортегианская дегуманизация, о которой у нас уже много раз шла речь. Это веласкесовские «Менины», переписанные Пабло Пикассо. Не знаю, как у Леверкюна, а у самого Манна такая игра здорово получалась, и снова архетипы наполнялись светом и смыслом, – что с того, что это были смыслы других времен. Как бы то ни было, пломбирует и лечит классику Леверкюн вдохновенно и с большим успехом. Надо сказать, что ни одному писателю до Манна не удавалось, хотя немецкие романтики очень старались, так слышно описать музыку. Самый в этом смысле знаменитый опыт – «Жан-Кристоф» Ромена Роллана, тоже история жизни одного немецкого композитора, не идет ни в какое сравнение с тем, что делает Манн. У Манна особую достоверность этому описанию звучания, которое мы видим глазами, но не слышим, а кажется, что слышим, так вот, достоверность придает специфическая техническая оснастка, кухня музыкального мастерства изнутри, которую способен описать только сугубый профессионал. Не переживания зрителя и картинки, предстающие его умственному взору (так, кстати говоря, происходит только с очень неопытным слушателем), а технологический процесс музыкального сочинительства, собственно музыкальные структуры. Откуда это? Я вам уже говорила, что Манн всегда пользовался советами только из первых рук, и здесь его консультировал очень известный немецкий философ и музыковед, невероятный человек, ибо не было на свете ноты, которой бы он не знал – имя его Теодор Адорно. Философ Франкфуртской социологической школы, известный своими работами по современной музыке. Это с помощью Адорно была написана лекция, которую читает, кстати говоря, заика, учитель Леверкюна Вендель Кречмар, она посвящена анализу последней знаменитой 32-ой сонаты Бетховена. Кстати сказать, с помощью Адорно в романе при описании музыки Леверкюна используется действительно тогда только недавно разработанная музыкальная додекафоническая, т. е. двенадцатитоновая система музыкального письма и утверждается, что это детище Адриана Леверкюна. На самом деле систему разработал реально существовавший очень известный композитор-авангардист, принадлежавший к т. н. нововенской школе, Арнольд Шенберг. Шенберг возмутился тем, что его имя нигде не упоминается в тексте, и предъявил права. Имела место ссора, но Манн снизошел только до того, что сделал приписку после последних строк романа, что де, мол, музыкальная додекафоническая система – детище господина Шенберга. А в сам роман имя вводить не стал, потому что, я уже говорила, вслед за Гете был убежден в том, что имеет право, поскольку то, что взял и переналадил, ввел в новое окружение, то – мое, говорите спасибо, что оказал честь.
Ну а как обстоят дела с запретом на человеческое тепло, с обетом, данным черту? Плохо обстоят дела. Первая попытка Адриана прорваться к человечности через сватовство, между тем как свататься он отправляет друга, для того чтобы не выглядеть комично в этой уж слишком архетипической ситуации, кончается плачевно: выясняется, что невеста симпатизирует как раз Адрианову посланцу. Вообще эпизод воспроизводит историю сватовства Ницше к Лу Андреас Саломе через Пауля Рее.
Второй эпизод связан с фигурой скрипача Руди Швердтфегера, способного музыканта и довольно обаятельного молодого человека, добившегося расположения выдающегося композитора и пустившего в ход все свое обаяние, чтобы совратить Адриана с его ледяного пути. И он добивается того, что Леверкюн переходит с ним на «ты» и посвящает скрипичный концерт, начиная привязываться к скрипачу (западные исследователи вволю потешили свою душеньку, обсуждая «гомосексуальный» мотив), но волею судеб Руди убивает в трамвае выстрелом из пистолета его бывшая возлюбленная, с которой он намерен порвать. И Адриан считает, что это он виноват в смерти скрипача.
Третий эпизод относится к маленькому мальчику Непомуку Шнейдевейну, внуку хозяйки дома, в котором живет Адриан. Это эльфическое дитя, списанное с внука самого Томаса Манна Фридолина, и воспроизводящее все его смешные словечки и манеры. К нему-то и привязывается всей душой Леверкюн, но тот заболевает менингитом и в муках умирает. Следует страшное описание агонии малыша. Нужно сказать, что Катя Манн и родственники не очень скоро простили дедушке такую выходку. Вообразите, во время писания Манн устраивал еженедельные сеансы чтения в домашнем кругу. Смерть мальчика окончательно убеждает Адриана в том, что это все происки дьявола, и что это он, кому было сказано: не возлюби, – губит всех, к кому привязывается. И тогда, окончательно потеряв голову, а головные боли у него к этому времени усиливаются, Леверкюн произносит знаменательную фразу: «Я ее отниму!» Композитора спрашивают, что именно он собирается отнять, и Адриан говорит: «Девятую симфонию».
Имеется в виду, быть может, самая знаменитая в мире музыка, Девятая, последняя симфония Людвига ван Бетховена, заканчивающаяся шиллеровской одой «К радости», симфония, являющаяся символом человеческого единения и потому своеобразным гимном Организации Объединенных Наций. Принято считать, что Девятая симфония с ее темой судьбы, пробивающейся через страдания к радости, воплощает крестный путь человечества, а равно человеческой личности в этом мире. После трех трагических музыкальных частей следует четвертая, в которой вступает и разрабатывается удивительная, вроде бы очень неприхотливая и простенькая музыкальная тема, тема радости. Потом звучат «фанфары ужаса» (так их назвал Вагнер), и бас (а иногда баритон) запевает: «О братья, довольно печали, будем гимны петь безбрежному веселью и светлой радости…» Вот эту симфонию намерен отнять у человечества Леверкюн, и, чтобы сделать это, он пишет страшную кантату «Плач доктора Фаустуса». Эта кантата с жуткими словами строится на том, что инструментальная часть в ней вокализована, меж тем как человеческий голос совершенно подражает звуку инструментов, тем самым рождая жуткий эффект какой-то обесчеловеченности и дьяволиады.
Адриан сходит с ума, и его помещают в сумасшедший дом. Серенус Цейтблом под звуки бомбежки и разрывов снарядов дописывает воспоминания о своем друге, неизбежно проводя параллели между его горькой участью и судьбой пожелавшей стать выше всего человечества Германии. Последние слова в романе принадлежат смиренному (в отличие от непокорного Леверкюна) Серенусу Цейтблому: «Смилуйся Боже над моим позабывшим в своей необузданной гордыне Бога и милосердие народом и над бедным художником, моим другом».
Да, совершенно очевидно, что Томас Манн в романе (разумеется, мне удалось выделить только один романический лейтмотив, произведение много сложнее, оно изобилует побочными темами) приравнял фашистский эпизод в немецкой истории к судьбе высокомерного, отвернувшегося от рядовых людей авангардистского искусства. С одной стороны, это так, с другой, реальный текст романа, трагическая и масштабная фигура Адриана Леверкюна не позволяют сделать столь однозначных и крайних выводов. Автор романа «Доктор Фаустус» и его персонаж слишком духовно и профессионально близки, чтобы делать такие заключения. К тому же, литература вообще, а великая литература в особенности, не имеет ничего общего с катехизисом, побуждая только к сосредоточенности мысли и души.
Насущная необходимость игры, или О Германе Гессе (1877–1962) и его романе «Игра в бисер»
Я уже рассказывала о том, как однажды в 1943 году Томас Манн, который в то время писал «Доктора Фаустуса», получил посылку с книжкой, прочитал ее и написал в дневнике странную фразу: «Всегда неприятно обнаруживать, что не ты один…» Получена им была «Игра в бисер», послал ее автор, Герман Гессе, и, прочитав книгу, Манн обнаружил духовного собрата, писателя, в сущности, озабоченного теми же проблемами, в частности, высокомерием отворачивающейся от «слишком человеческого» культуры. Позже мы уточним, в чем их совпадения, – все это при том, что художественный почерк у этих писателей разный.
Откуда он и кто таков, этот Герман Гессе? Южная Германия, Швабия, городок Кальв, стоящий на речке Нагольд, окружен лесами. Игрушечный городок, дома с двускатными черепичными крышами и наичистейшими оконными стеклами, ратушная площадь, от которой до лесу 15 минут ходьбы, два лесообрабатывающих заводика. Этакий окруженный пограничным валом средневековый городишко, провинциальный, патриархальный, неизменный и, кажется, что в нем впору проживать эльфам и гномам. Вся эта патриархальная почти сельская атмосфера детства оказала очень серьезное влияние на Гессе, герои которого игнорируют достижения цивилизации, передвигаются по преимуществу пешком, с посохом в руке и заплечным мешком, а когда один раз в романе «Игра в бисер» упоминается машина, то звучит это диковато. Отсюда же выраженная неприязнь к таким новинкам цивилизации, как радио, не говоря уж о телевидении и масс медиа в принципе. Отсюда, хотя, конечно, не только отсюда, отвращение к массовой культуре, ко всякому упрощенчеству, к толпе, и всяческому коллективизму.
Известно, что родители Германа Гессе были протестантскими миссионерами, чей брак покоился на общности убеждений. Мать родилась в Индии, хотя была из Европы, родители снова собирались туда отправиться проповедовать, но этому помешала слабость здоровья. Хотя много позже Гессе скажет о неистощимой фантазии и музыкальности матери и чуткой совести отца, свои трудности в отношениях имели место. Это были люди в высшей степени добропорядочные, добродетельные, правильные, искренние, догматичные и несколько занудные. Короче говоря, протестантские моралисты. Напомню, что во всех конфессиях есть свои специфические опасности, есть они и в протестантизме. Припомним, что в протестантизме нет таинства исповеди и отпущения грехов, протестант должен в одиночестве без церковной помощи переваривать собственные, неизбежно имеющиеся проблемы, – беспроблемны только животные, – человек не освобождается с церковной помощью от груза вины, ответственность давит с двойной силой, а остаться без традиционных церковных ритуалов – это как дикарю, остаться без самозащитных ритуалов вежливости перед лицом всего, что может произойти. Из этой непростой ситуации рождаются ибсеновские, бергмановские и фолкнеровские протестантские омерзительные пасторы с их оголтелым морализмом. Протестантское сознание становится особенно бдительным и обретает неприятную склонность вмешиваться в жизни других людей, затрудняя ее. Оттого сознательные протестанты часто тяжелые люди. Я сейчас говорю о негативных следствиях протестантизма, хотя есть и положительные: не давай милостыню – организуй ночлежку, никакого соборно-коллективного пустословия, все деловым образом, деньги не для гулянки, а для последующего инвестирования. Вот конфликт с протестантством сына протестантов и протестанта по духу лежит в основе всех произведений Гессе. Родительские убеждения весьма похожи на убеждения страшного фолкнеровского пастора Макихерна из романа «Свет в августе», только они, конечно, были людьми много более мягкими по натуре, а так это: человеческая природа и воля дурны, только сломав их, можно обрести любовь к Богу.
Между тем пятнадцатилетний Герман, учащийся семинарии в Маулбронне, как-то раз совершенно неожиданно для самого себя и для прочих из указанной семинарии исчезает и его в течение нескольких дней ищут в окрестных лесах, а потом вылавливают в городке неподалеку. Позже Гессе напишет: «В течение более чем четырех лет все усилия повлиять на меня ни к чему не приводили, ни одна школа не могла удержать меня, никакое учение не было долгим. Любая попытка сделать из меня пригодного для общества человека не имела успеха, несколько раз все заканчивалось скандалом или позором, бегством или высылкой…» Тогда родители отправляют Германа в заведение известного экзорциста – изгонять бесов. Следует попытка самоубийства, экзорцист умывает руки. Тогда родители и помещают его в Штеттин в лечебницу к слабоумным. А сынок пишет им из штеттинской психушки письмо: «Вы без сучка и задоринки, и мертвы как статуи. У вас на устах все Христос и блаженство, но то, что между Христом и блаженством, – сплошная ложь». Меж тем в лечебнице среди слабоумных у него естественно формируется комплекс отверженности, одиночества и непонятости. Объективности ради нужно сказать, что характер у него был тяжкий, не говоря уж о страсти к поджогам, от которой страдали соседи. В доме была роскошная библиотека, и Герман в нее впился, с этого момента – прочь все учебные заведения, только читать. Вообще в душе у Гессе всю жизнь борьба, протестантский ужас перед греховностью и соответственно тяга к высвобождению от бесконечных «нельзя». Особенно это видно по знаменитому роману «Степной волк», в нем описываются самые рискованные – не по нынешним временам – похождения и сексуальный опыт, а все равно сохраняется впечатление, что описывает это человек, трясущийся от страха… человек, приходящий в ужас от собственной греховности, если он возвратился домой на час позже, полюбезничав с незнакомой девушкой в каком-нибудь ресторанчике. Кстати, именно на эту его черту указывал Сергей Сергеевич Аверинцев.