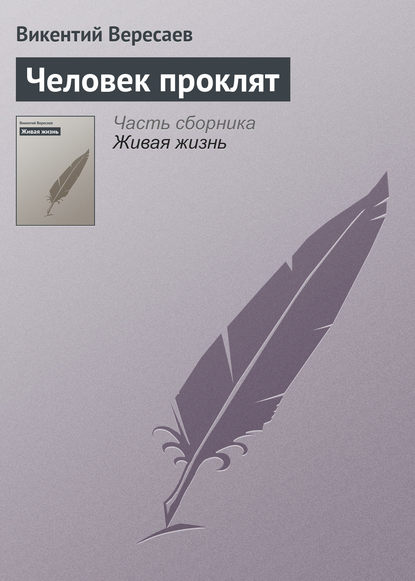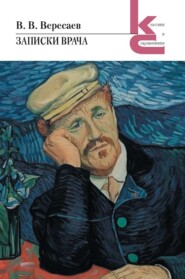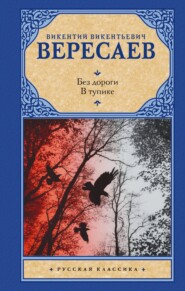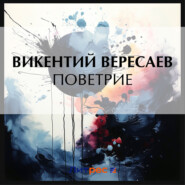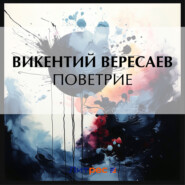По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Человек проклят
Жанр
Серия
Год написания книги
1909
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«По-моему, – говорит Версилов, – человек создан с физическою невозможностью любить своего ближнего. «Любовь к человечеству» надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей».
Так же высказываются Иван Карамазов, Настасья Филипповна, многие другие. И уже прямо от себя Достоевский в «Дневнике писателя» пишет: «Я объявляю, что любовь к человечеству – даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой» (курсив Достоевского).
Раз же нет этой толкающей силы, раз человеку предоставлено свободно проявлять самого себя, – то какая уж тут любовь к человечеству! Нет злодейства и нет пакости, к которой бы не потянуло человека. Мало того, только к злодейству или к пакости он и потянется.
Иван Карамазов утверждает, что «для каждого лица, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному; эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».
Сдерживать такого человека могут соображения только чисто внешнего свойства – боязнь, например, общественного мнения и т. п. Достоевского чрезвычайно интересует такой вопрос:
«Положим, вы жили на луне, вы там, положим, сделали злодейство, или, главное, стыд, т. е. позор, только очень подлый и… смешной. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?»
Этот вопрос задает Ставрогин Кириллову. Совсем такой же вопрос задает себе герой «Сна смешного человека». В жизни приходится скрывать свою тайную сущность, непрерывно носить маску. Но сладко человеку вдруг сбросить душную маску, сбросить покровы и раскрыться вовсю.
Кладбище. В могилах зеленая вода. Доносятся из-под земли глухие разговоры, «как будто рты закрыты подушками». Это под землею беседуют мертвецы.
«– Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!
– Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! – послышались многие голоса. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.
– Ах, как я хочу ничего не стыдиться! – с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.
– На земле жить и не лгать невозможно, – сказал барон. – Ну, а здесь мы для смеху будем не лгать. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживем в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся!
– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса» («Бобок»).
Но и ношение маски дает своеобразное наслаждение. Выбрать только маску с выражением поблагороднее и повозвышеннее. Люди с уважением смотрят и не подозревают, что под маскою смеется над ними и дергается бесстыдное дьявольское лицо.
Князь-отец в «Униженных и оскорбленных» рассказывает про одну красавицу графиню. Она была примерно добродетельна, пользовалась глубоким уважением за свою безупречную чистоту, к падшим относилась с жестокостью беспощадной. «И что же? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастие заслужить ее доверенность. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении – была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний, дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать, – вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо-очарователен».
Когда с ближним случается несчастие, то в душе человека закипает хищная радость, – это уже прямо от своего лица Достоевский настойчиво повторяет чуть не в каждом романе.
«Странное внутреннее ощущение довольства всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастии с их ближним; несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия» («Преступление и наказание»). «Вообще в каждом несчастии ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз, – и даже кто бы вы ни были» («Бесы»). «Я был потрясен даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастии, т. е. когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и пр. – даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне горю» («Подросток»).
Поистине, человек – это прирожденный дьявол. «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto», – заявляет черт Ивану Карамазову. Я – сатана, и ничто человеческое мне не чуждо. Говорит он это по поводу полученного им ревматизма. Но не только подверженность ревматизму, – в человеке вообще нет ничего, что было бы чуждо дьяволу. «Я думаю, – говорит Иван, – что, если дьявол не существует, и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию».
В человеке живет инстинктивная, непреодолимая ненависть и отвращение к гармонии, его тянет к разрушению, к хаосу.
«Как я донес букет, не понимаю, – сказал Версилов. – Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой… Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош».
В душе человеческой лежит дьявол. Великое счастье для жизни, что его удерживает в душевных глубинах тяжелая крышка, которой название – бог.
Федор Павлович Карамазов либеральничает:
«Взять бы всю эту мистику (монастыри), да разом по всей русской земле и упразднить… Чтоб истина скорее воссияла».
Иван возражает:
«Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом… упразднят».
Если сбросить крышку, то в жизни произойдет нечто ужасающее. Настанет всеобщее глубокое разъединение, вражда и ненависть друг к другу, бесцельное стремление все разрушать и уничтожать. Случится то, что грезится Раскольникову на каторге:
«Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».
III
Не забывающие про смерть
В «Дневнике писателя» Достоевский приводит сочиненное им письмо одного самоубийцы, – «разумеется, материалиста» («Приговор»).
«Я не могу быть счастлив, – пишет самоубийца, – даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество – обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его».
Какие логические доводы можно привести против этого рассуждения? Никаких. Рассуждение вполне правильно. Человек не может не знать, что он умрет, – не завтра, так через сорок лет. Что же это за странная душевная тупость – думать о каком-то счастье, суетливо устраивать мимолетную жизнь, стремиться, бороться, чего-то желать и ждать. Для чего?.. Два только есть логически разумных выхода – либо убить себя, либо последовать примеру пирующих во время чумы: отдаться мгновенным наслаждениям, затуманить мысль о неотвратимом будущем и самозабвенно упиваться
ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем дому встречаю,
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши.
Однако люди живут, творят жизнь. И проповедникам тлена стоит больших усилий заставить их очнуться на миг и вспомнить, что существует смерть, все делающая ничтожным и ненужным. В этой странной слепоте всего живущего по отношению к смерти заключается величайшее чудо жизни.
Прометей у Эсхила говорит:
Я смертным дал забвенье смерти.
И хор бессмертных Океанид в изумлении спрашивает:
Но как могли про смерть они забыть?
Этого бессмертным не понять. Не понять, что великая сила жизни делает живое существо неспособным внутренно чуять смерть. Только теоретически оно способно представить себе неизбежность смерти, чует же ее душою разве только в редкие отдельные мгновения. «Никто, – говорит Шопенгауэр, – не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было бы большого различия между его настроением и настроением человека, приговоренного к смертной казни. Напротив, каждый, хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает ее в сторону, как другие теоретические истины, которые, однако, на практике неприложимы, – нисколько не воспринимая их в свое живое сознание».
Бессмертным этого не понять. Не понять этого и слишком смертным, – тем, кто носит в духе своем смерть и разложение. Не понимают и герои Достоевского.
Все они полны смутного, мятущегося ужаса перед уничтожением. Одно напоминание о смерти заставляет их содрогаться.
«В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для Раскольникова было что-то тяжелое и мистически-ужасное с самого детства». «Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней», – сознается Свидригайлов. «Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда-нибудь об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти!» (Лиза, сестра Подростка). «Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна!» (Катерина Николаевна в «Подростке»). «Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать!» (Лиза в «Бесах»).
Страх смерти – это червь, непрерывно точащий душу человека. Кириллов, идя против бога, «хочет лишить себя жизни, потому что не хочет страха смерти». «Вся свобода, – учит он, – будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить… Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог».
Но как при таком душевном состоянии возможна жизнь? Достоевский решительно отвечает: невозможна. Как нет внутри человека сил, способных поднять его хоть немного выше дьявола, – так нет внутри его и сил, дающих возможность смотреть без непрерывного ужаса в лицо неизбежной смерти. Единственная возможность жизни, это – полное уничтожение смерти, т. е. личное бессмертие. Если же нет людям бессмертия, то жизнь их превращается в одно сплошное, сосредоточенное ожидание смертной казни. «Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его», – пишет самоубийца в «Приговоре».
«Я представляю себе, мой милый, – начал Версилов с задумчивою улыбкою, – что бой уже кончился и борьба улеглась. Настало затишье, – и люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их, люди разом почувствовали великое сиротство… Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к Тому, Который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в такой мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. «Пусть завтра последний день мой, – думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, – но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их»… О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть…»
IV
«Если бога нет, то какой же я после этого капитан?»
«А что, когда бога нет? – говорит Дмитрий Карамазов. – Тогда, если его нет, то человек – шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это… Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу».
Мы видели: без бога не только невозможно любить человечество, – без бога жизнь вообще совершенно невозможна. В записных книжках Достоевского, среди материалов к роману «Бесы», есть рассуждение, которое Достоевский собирался вложить в уста Ставрогину:
Так же высказываются Иван Карамазов, Настасья Филипповна, многие другие. И уже прямо от себя Достоевский в «Дневнике писателя» пишет: «Я объявляю, что любовь к человечеству – даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой» (курсив Достоевского).
Раз же нет этой толкающей силы, раз человеку предоставлено свободно проявлять самого себя, – то какая уж тут любовь к человечеству! Нет злодейства и нет пакости, к которой бы не потянуло человека. Мало того, только к злодейству или к пакости он и потянется.
Иван Карамазов утверждает, что «для каждого лица, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному; эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».
Сдерживать такого человека могут соображения только чисто внешнего свойства – боязнь, например, общественного мнения и т. п. Достоевского чрезвычайно интересует такой вопрос:
«Положим, вы жили на луне, вы там, положим, сделали злодейство, или, главное, стыд, т. е. позор, только очень подлый и… смешной. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?»
Этот вопрос задает Ставрогин Кириллову. Совсем такой же вопрос задает себе герой «Сна смешного человека». В жизни приходится скрывать свою тайную сущность, непрерывно носить маску. Но сладко человеку вдруг сбросить душную маску, сбросить покровы и раскрыться вовсю.
Кладбище. В могилах зеленая вода. Доносятся из-под земли глухие разговоры, «как будто рты закрыты подушками». Это под землею беседуют мертвецы.
«– Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!
– Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! – послышались многие голоса. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.
– Ах, как я хочу ничего не стыдиться! – с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.
– На земле жить и не лгать невозможно, – сказал барон. – Ну, а здесь мы для смеху будем не лгать. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживем в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся!
– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса» («Бобок»).
Но и ношение маски дает своеобразное наслаждение. Выбрать только маску с выражением поблагороднее и повозвышеннее. Люди с уважением смотрят и не подозревают, что под маскою смеется над ними и дергается бесстыдное дьявольское лицо.
Князь-отец в «Униженных и оскорбленных» рассказывает про одну красавицу графиню. Она была примерно добродетельна, пользовалась глубоким уважением за свою безупречную чистоту, к падшим относилась с жестокостью беспощадной. «И что же? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастие заслужить ее доверенность. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении – была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний, дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать, – вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо-очарователен».
Когда с ближним случается несчастие, то в душе человека закипает хищная радость, – это уже прямо от своего лица Достоевский настойчиво повторяет чуть не в каждом романе.
«Странное внутреннее ощущение довольства всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастии с их ближним; несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия» («Преступление и наказание»). «Вообще в каждом несчастии ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз, – и даже кто бы вы ни были» («Бесы»). «Я был потрясен даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастии, т. е. когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и пр. – даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне горю» («Подросток»).
Поистине, человек – это прирожденный дьявол. «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto», – заявляет черт Ивану Карамазову. Я – сатана, и ничто человеческое мне не чуждо. Говорит он это по поводу полученного им ревматизма. Но не только подверженность ревматизму, – в человеке вообще нет ничего, что было бы чуждо дьяволу. «Я думаю, – говорит Иван, – что, если дьявол не существует, и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию».
В человеке живет инстинктивная, непреодолимая ненависть и отвращение к гармонии, его тянет к разрушению, к хаосу.
«Как я донес букет, не понимаю, – сказал Версилов. – Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой… Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош».
В душе человеческой лежит дьявол. Великое счастье для жизни, что его удерживает в душевных глубинах тяжелая крышка, которой название – бог.
Федор Павлович Карамазов либеральничает:
«Взять бы всю эту мистику (монастыри), да разом по всей русской земле и упразднить… Чтоб истина скорее воссияла».
Иван возражает:
«Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом… упразднят».
Если сбросить крышку, то в жизни произойдет нечто ужасающее. Настанет всеобщее глубокое разъединение, вражда и ненависть друг к другу, бесцельное стремление все разрушать и уничтожать. Случится то, что грезится Раскольникову на каторге:
«Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».
III
Не забывающие про смерть
В «Дневнике писателя» Достоевский приводит сочиненное им письмо одного самоубийцы, – «разумеется, материалиста» («Приговор»).
«Я не могу быть счастлив, – пишет самоубийца, – даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество – обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его».
Какие логические доводы можно привести против этого рассуждения? Никаких. Рассуждение вполне правильно. Человек не может не знать, что он умрет, – не завтра, так через сорок лет. Что же это за странная душевная тупость – думать о каком-то счастье, суетливо устраивать мимолетную жизнь, стремиться, бороться, чего-то желать и ждать. Для чего?.. Два только есть логически разумных выхода – либо убить себя, либо последовать примеру пирующих во время чумы: отдаться мгновенным наслаждениям, затуманить мысль о неотвратимом будущем и самозабвенно упиваться
ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем дому встречаю,
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши.
Однако люди живут, творят жизнь. И проповедникам тлена стоит больших усилий заставить их очнуться на миг и вспомнить, что существует смерть, все делающая ничтожным и ненужным. В этой странной слепоте всего живущего по отношению к смерти заключается величайшее чудо жизни.
Прометей у Эсхила говорит:
Я смертным дал забвенье смерти.
И хор бессмертных Океанид в изумлении спрашивает:
Но как могли про смерть они забыть?
Этого бессмертным не понять. Не понять, что великая сила жизни делает живое существо неспособным внутренно чуять смерть. Только теоретически оно способно представить себе неизбежность смерти, чует же ее душою разве только в редкие отдельные мгновения. «Никто, – говорит Шопенгауэр, – не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было бы большого различия между его настроением и настроением человека, приговоренного к смертной казни. Напротив, каждый, хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает ее в сторону, как другие теоретические истины, которые, однако, на практике неприложимы, – нисколько не воспринимая их в свое живое сознание».
Бессмертным этого не понять. Не понять этого и слишком смертным, – тем, кто носит в духе своем смерть и разложение. Не понимают и герои Достоевского.
Все они полны смутного, мятущегося ужаса перед уничтожением. Одно напоминание о смерти заставляет их содрогаться.
«В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для Раскольникова было что-то тяжелое и мистически-ужасное с самого детства». «Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней», – сознается Свидригайлов. «Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда-нибудь об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти!» (Лиза, сестра Подростка). «Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна!» (Катерина Николаевна в «Подростке»). «Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать!» (Лиза в «Бесах»).
Страх смерти – это червь, непрерывно точащий душу человека. Кириллов, идя против бога, «хочет лишить себя жизни, потому что не хочет страха смерти». «Вся свобода, – учит он, – будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить… Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог».
Но как при таком душевном состоянии возможна жизнь? Достоевский решительно отвечает: невозможна. Как нет внутри человека сил, способных поднять его хоть немного выше дьявола, – так нет внутри его и сил, дающих возможность смотреть без непрерывного ужаса в лицо неизбежной смерти. Единственная возможность жизни, это – полное уничтожение смерти, т. е. личное бессмертие. Если же нет людям бессмертия, то жизнь их превращается в одно сплошное, сосредоточенное ожидание смертной казни. «Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его», – пишет самоубийца в «Приговоре».
«Я представляю себе, мой милый, – начал Версилов с задумчивою улыбкою, – что бой уже кончился и борьба улеглась. Настало затишье, – и люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их, люди разом почувствовали великое сиротство… Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к Тому, Который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в такой мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. «Пусть завтра последний день мой, – думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, – но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их»… О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть…»
IV
«Если бога нет, то какой же я после этого капитан?»
«А что, когда бога нет? – говорит Дмитрий Карамазов. – Тогда, если его нет, то человек – шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это… Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу».
Мы видели: без бога не только невозможно любить человечество, – без бога жизнь вообще совершенно невозможна. В записных книжках Достоевского, среди материалов к роману «Бесы», есть рассуждение, которое Достоевский собирался вложить в уста Ставрогину: