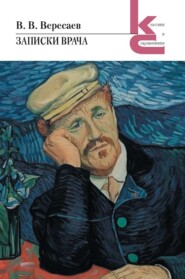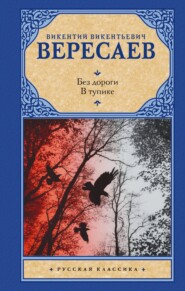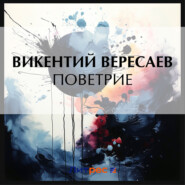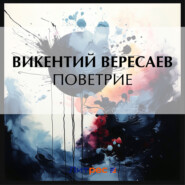По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На мёртвой дороге
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Для чего? Для нравоучения!
Мы молча уставились друг на друга.
– Я вас не понимаю. Какое же в планах нравоучение?
– В них большое нравоучение состоит!.. Вы вот в рудник опускались, видали все; есть там вентиляция, позвольте вас спросить?
– Есть.
– Есть?.. Там вентиляция такая, что есть ли она, нет ли, – все одно. Только для виду печи стоят. Почему это, позвольте спросить, если на поверхности работать, то работай сколько хочешь, и ничего тебе не будет, а в шахте час посидишь – и начнешь черной харковиной плевать? Тут причина вот какая: току воздуха дается неправильное направление, поэтому газам некуда уходить, они идут в середину к человеку. Я вам сейчас все это объясню.
Никитин достал из сумки толстый сверток и развязал его. В нем оказалось около десятка больших, довольно неумело начерченных и раскрашенных планов. Развертывая передо мною один план за другим, Никитин стал объяснять мне, в чем заключаются недостатки вентиляции в шахтах. Я незнаком с вопросом о рудничной вентиляции, но чувствовалось мне, что критика Никитина представляет собою что-то крайне нелепое. Впоследствии я рассказывал о своем разговоре с ним нескольким инженерам, и все они нашли, что указания Никитина в корне игнорировали самые элементарные правила горного искусства.
– Вот в чем все дело! – закончил Никитин свои объяснения. – Это все на плантах видно, всякий сразу бы понял, кабы пропечатать… Азбуки вот у нас печатают, ситцы печатают, – отчего же не печатают плантов?.. Двенадцать часов народ в шахте сидит, а дышать ему нечем. Воротится шахтер домой и помрет. Вы взрежьте его, посмотрите, – у него все кишки пропитались газом… Вот отчего нашего народу россейского так много помирает!
– До-овольно его, хватит! – с усмешкою произнес Михайло. – Хлеба нет, есть нечего… Погляди, наделы-то какие стали: курице ступить некуда.
– «Хватит»!.. А вот помрешь, – дети останутся, – сдержанно возразил Никитин.
– Э, живы будут – и сыты будут, – сказал Михайло, махнув рукою. – Вырастут, сами работать станут.
– Вы и в Карачевские рудники для того поступаете, чтобы план снять? – спросил я Никитина.
– Для этого самого. Я уже расспрашивал ребят: много непорядков там! Дождутся взрыва, как Иловайские! Слыхали, в Иловайском руднике зимою взрыв был? Двенадцать человек побило газом! Это что же такое? Должны бы они смотреть или нет? Навесть хотели, – и навели, и сделали дело… Двенадцать человек погубили!.. А все оттого, что вентиляции нет.
– Разве от этого? А я слышал, – оттого, что работы производились без предохранительных ламп.
– Нет, тут дело не в лампах! Лампы что!.. Тут штука вот какая: вентиляции настоящей не было. Я вам сейчас все это правильно докажу.
Никитин порылся в свертке, достал план рудника Иловайских.
– Извольте смотреть: вот она нижняя продольная идет, вот она – верхняя. По мо?штабу в каждой пятьдесят сажен длины. По ним какой ветер должен бы ходить? Чтоб шапки срывало! А у них народ задыхается. Почему тут просека нет, позвольте спросить? От бремсберга должен во всю длину просек к вентиляционной печи, – где он? – Никитин спрашивал отрывисто и строго, словно обращался к невидимому подсудимому. – Почему воздушная шахта в стороне поставлена? Я им все это в подробности объяснил, письмо послал. Неделю жду, другую, – не шлют ответа. Пошел сам… «Получили письмо?» – При этом Никитин грозно нахмурил брови; затем откинул голову и, прищурив левый глаз, протянул медленно и высокомерно: – «По-лу-чи-ли, но нам нет надобности давать вам ответ». – «Поч-чему нет надобности?!» – «Потому что это дело до вас не касается».
Никитин замолчал и выжидательно взглянул на меня своими странно блестевшими глазами.
– Позвольте спросить: как это, принадлежно к их званию?
Я с сожалением пожал плечами.
– Разумеется, этого и следовало ожидать. С какой стати они вам будут давать ответ?
– Небось, как планты пропечатают, так придется ответ дать.
– Да и тогда вряд ли придется.
Я стал доказывать Никитину совершенную бесцельность и ненужность его предприятия; планов его никто и покупать-то не станет, если же купит, то все равно ничего не поймет; о тяжелом положении шахтеров уже много писалось в газетах, а дело все идет по-прежнему: изданием планов тут мало поможешь… Михайло сочувственно поддакивал. Никитин оживился; на самолюбивом лице выступили красные пятна, глаза враждебно заблестели.
– Как это вы можете говорить, что ничего понять нельзя? – возражал он. – Тут всякий может понимать! Извольте смотреть.
И он разворачивал передо мною один план за другим и взволнованно водил пальцем по желтым, красным и серым квадратикам, по непонятным для меня надписям: «квершлаг», «бремсберг», «капитальный просек» и т. п. Для Никитина эти планы, в которые он вложил столько любви и труда, видимо, дышали жизнью; ему казалось, достаточно любому взглянуть на них, чтоб сразу получить яркое представление о тяжелой судьбе шахтера. Я видел, разубеждать Никитина было бесполезно: слишком уж он сжился с своим дело, чтоб так легко отказаться от него.
– Ну, во всяком случае, дай вам бог удачи! – сказал я. – Если обратят внимание на ваши планы, то вы сделаете хорошее дело… Вы что же, сами собираетесь издать их?
– Обязательно, – неумолимо ответил Никитин, словно я просил его пощады тех, для кого он готовил удар изданием своих планов. – Разве все эти безобразия возможно дозволять! Не-ет!..
Он быстро свернул планы и молча, не глядя на меня, стал укладывать их в сумку; увязал сумку, надел на плечи. Я спросил:
– Что это, вы уж идти собираетесь? Ведь жарко еще! Посидели бы, переждали, пока жар спадет.
– Время идти: и так дай бог к ночи поспеть… Просим прощения.
Никитин угрюмо приподнял фуражку, поправил ремни на плечах и пошел к рудникам.
– Тоже – планты печатать собрался!.. Землемер!.. – Михайло иронически глядел ему вслед. – Вот как наладит его хозяин по шеям, чтоб не в свое дело не совался, так забудет о плантах думать!
Он выбил о порог выгоревшую трубку, стал набивать со табаком. Никитин, миновав соломенный навес крестьянской шахты, быстро и нервно шагал по пыльной дороге.
– Прошибешь их плантами! Вон у нашего хозяина, – поди-ка погляди, в каких конурах народ живет! Собаку в такую землянку загнать совестно, а у него в каждой по два семейства да по два нахлебника живет. Зайдешь в землянку осенью, – грязь, слякоть, хлев настоящий, народу – что снопов в скирде… А на Солодиловке вон огромадные здания пустые стоят, ч-черт их душит!..
И опять полился поток суровых обличений. И вдруг я опять почувствовал, как кругом жарко, душно и тоскливо… Солнце жгло без пощады и отдыха; нечем было дышать, воздух был горячий и влажный, как в бане; ласточки низко носились над степью, задевая крыльями желтую траву. Никитин уже исчез из виду. Вдали, на дороге, длинною полосою золотилась пыль, в пыли двигался обоз с углем. Волы ступали, устало помахивая светло-серыми головами, хохлы-погонщики, понурившись, шли рядом. Все изнемогало от жары…
А Михайло, попыхивая трубкою, неутомимо рассказывал о бесчисленных злоупотреблениях здешних углепромышленников, – и роптал, роптал без конца…
Кругом стало темней. По степи пошла тень. Воцарилась странная тишина.
Михайло прислушался и сказал:
– Никак, гроза идет.
Я вышел в степь. С запада медленно, словно подкрадываясь, ползли по небу тяжелые грязно-желтые и лиловые тучи; чуть слышно погромыхивал гром. Все вокруг примолкло, ветер упал. А далеко на западе, по дороге, вился и клубился огромный столб золотистой пыли; на глаз этот столб двигался медленно, но чувствовалось, что он мчится с страшною быстротою. Вот он захватил и окутал могилу у перекрестка… Вдруг кругом все завыло и засвистело. От крестьянской шахты взвилась туча черной пыли и смешалась с набежавшим золотистым вихрем. Трудно было стоять на ногах, пыль залепляла глаза, набивалась в рот. Громадные клубы ее, словно спеша куда-то, неслись между шахтой и сторожкой, перебегая наискось рельсы, и исчезали за балкой. Сквозь пыль едва видны были на дороге тени Обоза; хохлы стояли на фурах и, согнувшись, поспешно надевали развевавшиеся по ветру свиты; волы склонили свои красивые рогатые головы навстречу вихрю. Вдруг резко блеснула молния, по небу, с запада на восток, с оглушительным, прерывистым треском пронесся гром, повернул обратно и с глухим грохотом скатился за шахту. Хлынул дождь…
Дождь хлынул крупный, частый; он с силою забил по земле, заволакивая ее мелкою водяною пылью. Даль замутилась, все небо стало ровного серого цвета, и только на юге шевелились и быстро таяли мутные клочья туч. Свежий ветер мчался по степи, в брызги разбивая сплошные струи дождя, и казалось, какие-то туманные тени несутся под дождем в сырую даль. Молнии то и дело сверкали малиновым светом, гром весело катался по небу из конца в конец. Перед сторожкою образовалась большая лужа; она росла, вздувалась и, обогнув полынные кусты, медленно поползла по дороге, оставляя за собою грязный, пенистый след.
Мы с Михайлой сидели в сенцах сторожки, – он на бочонке из-под кваса, я на скамейке. В дверь тянуло бодрящею, влажною прохладою; грудь жадно дышала. Михайло оживился: его суровое, всегда нахмуренное лицо смотрело теперь мягко и радостно.
– Вот так дождичка бог послал! Гляди-ка, как теперь яровые подымутся!.. Гляди-ка, как пшеница зацветет!..
Я слушал с невольною улыбкою, и в то же время сжималось сердце от жалости к Михайле; он сиял таким довольством, таким торжеством, как будто и ему самому дождь сулил невесть какие выгоды; но я прекрасно знал, что ничего здесь у Михайлы нет, кроме тянущейся перед нами ржавой, гнилой дороги, заросшей негодным бурьяном.
На тропинке показалась женщина в выцветшем голубом платочке, с котомкою за плечами. Она бежала, согнувшись и опустив голову, обливаемая дождем; ветер трепал мокрую юбку, липнувшую к ногам. Путница через лужи добежала до нашей сторожки и, охая, вошла в сенцы.
– О господи-батюшка!.. Вот дождик-то полил! – проговорила она, тяжело дыша. – Уж и не чаяла добежать… Здравствуйте, господа честные!
– Эк тебя промочило! – соболезнующе воскликнул Михайло.
– Да уж бежала, бежала… Вижу, тучки идут, а укрыться некуда. Спасибо, хатка ваша по дороге встрелась.
Она спустила с плеч котомку, поставила в угол и положила на нее свою белую камышовую трость с жестяным набалдашником; потом подошла к двери и стала выжимать мокрый, отрепанный подол юбки. Лицо у путницы было худое, почти черное от загара, и на нем странно белели белки глаз.